Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались»


(Продолжение. Начало в № 39)
«Человек еще в шкуре ходил, а «красной утопией» уже болел»
— Когда ваши книги читаю, мне кажется, что это одна большая история судеб человеческих. Работа над таким сложным и жестким материалом вас не изнурила, продолжать ее вы намерены?
— Это вы верно заметили: я одну книгу пишу, но не судьбы человеческой, нет — 30 с чем-то лет энциклопедию «красной утопии» писала.
Человек еще в шкуре ходил, а «красной утопией» уже болел. Большевики, коммунисты впервые реальностью ее сделали, и почему это — красивая ведь мечта! —огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались. Ответ не в одиночку искала — людей расспрашивала, то есть мои книги — это роман, из сотен голосов сплетенный: у каждого кусочек острой памяти о том времени есть, и когда все это воедино складывается, мощный монолит получается.
— Но вы для себя на вопрос, почему идея, овладевшая одной шестой частью суши, жуткой братской могилой закончилась, ответили? Причина-то в чем?
— Вы знаете, в двух словах причину не объяснить и на вопрос: почему? — до сих пор не ответил никто. Еще Георгий Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, Ленину говорил, что из феодализма в какой-то совершенно новый мир выскочить невозможно.
— На такое только Монголия оказалась способна...
— Ну, с помощью Советского Союза, а Плеханов предупреждал, что это кровью закончится.
Когда в эмиграцию я уехала, года три в Швеции жила, потом столько же во Франции, в Германии... Там очень много социализма везде, но он уже как результат развития общества научно-технического, культурного возник, а когда все это преждевременно, когда только желание разделить есть, забрать, как Ленин призывал, ничего, кроме кровопролития, не получится.

Из книги Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».
«Василий Петрович Н. — член Коммунистической партии с 1922 года, 87 лет.
— Ну да... хотел... Врачи вернули оттуда... Разве они знают, откуда возвращают? Я, конечно, атеист, но в старости уже ненадежный атеист. Ты один на один с этим... с мыслью, что надо уходить... куда-то... Ну да... другой взгляд... да-а-а... На землю... на песок... Не могу спокойно смотреть на обычный песок. Я давно старый. Сидим с кошкой у окна. (Кошка на коленях. Гладит). Телевизор включим...
И конечно... Никогда я не думал, что доживу до времен, когда начнут ставить памятники белым генералам. Раньше герои — кто? Красные командиры... Фрунзе, Щорс... А сейчас — Деникин, Колчак... Хотя живы еще те, кто помнит, как колчаковцы нас вешали на фонарях. «Белые» победили... Так получается? А я воевал, воевал, воевал. За что? Строил, строил... Что?
Был бы я писателем, сам взялся бы за мемуар. Слушал недавно по радио передачу о своем заводе. Я был первым директором. Обо мне рассказывали, как будто меня уже нет — я умер. А я... я живой... Они представить себе не могли, что я еще здесь... Да! Ну да... (Смеемся втроем. С нами сидит внук. Слушает).
Я чувствую себя забытым экспонатом в музейном запаснике. Пыльным черепком. Великая была империя — от моря до моря, от Заполярья до субтропиков. Где она? Побеждена без бомбы... без Хиросимы... Победила Ее Величество колбаса! Хорошая жратва победила! «Мерседес-бенц». Больше ничего человеку не надо, не предлагайте ему ничего больше. Без надобности. Только хлеба и зрелищ! И это самое большое открытие XX века. Ответ всем великим гуманистам. И кремлевским мечтателям. А мы... мое поколение... у нас были великие планы. Мечтали о мировой революции: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Построим новый мир, сделаем всех счастливыми. Нам казалось, что это возможно, я искренне верил! Совершенно искренне! (Задыхается от кашля). Астма замучила. Подождите... (Пауза).
Вот, я дожил... дожил до будущего, о котором мечтали. Умирали ради него, убивали. Крови было много... и своей, и чужой... «Иди и гибни безупречно! Умрешь недаром — дело прочно, когда под ним струится кровь...», «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть...». (Удивленно). Помню... не забыл! Не все вытравил из памяти склероз. Не окончательно. Стихи мы учили на уроках политграмоты... Сколько же это лет прошло? Сказать страшно...
Чем я потрясен? Убит чем? Идея растоптана! Коммунизм предали анафеме! Все разлетелось вдребезги! Я — выживший из ума старик. Кровавый маньяк... серийный убийца... Так, выходит? Я слишком долго живу, так долго жить не надо. Нельзя... нет... нельзя... Опасно жить долго. Мое время кончилось раньше моей жизни. Надо умирать вместе со своим временем. Как мои товарищи... Они погибали рано, в 20-30 лет... Счастливые умирали... С верой! С революцией в сердце, как тогда говорили. Я им завидую. Вы не поймете... я им завидую... «Погиб наш юный барабанщик...». Славно погиб! За великое дело! (Задумался). Я все время жил рядом со смертью, но мало думал о смерти. А этим летом свозили меня на дачу. Я смотрел и смотрел на землю... она живая...
— Смерть и убийство — разве это одно и то же? Вы жили среди убийств...
— (Раздраженно). За такие вопросы... Быть бы вам лагерной пылью. Север или расстрел — выбор маленький. В мое время таких вопросов не задавали. Не было у нас таких вопросов! Мы... Мы представляли себе справедливую жизнь, без бедных и богатых. Умирали за революцию, умирали идеалистами... бессребрениками...
Моих друзей давно нет, я остался один. Нет моих собеседников... По ночам я беседую с мертвыми... А вы? Вы наших чувств и наших слов не знаете: продразверстка, продотряд, лишенец, комбед... пораженец, повторник... Санскритские письмена для вас! Иероглифы!
Старость — это прежде всего одиночество. Последний знакомый старик в соседнем подъезде умер пять лет назад, а может, и больше... уже семь... Вокруг одни незнакомые люди. Приходят: из музея, из архива... из энциклопедии... Я — справочник... живой архив... А собеседников нет...
С кем бы я хотел поговорить? Мог бы с Лазарем Кагановичем... Нас мало уже осталось, а тех, кто не в маразме, еще меньше. Он старше, ему уже 90. Читал в газетах... (Смеется). В газетах пишут, что старики во дворе отказываются играть с ним в домино. В карты. Гонят: «Душегуб!». И он плачет от обиды. Когда-то железный нарком. Расстрельные списки подписывал, десятки тысяч людей загубил. 30 лет был рядом со Сталиным. А на старости лет ему не с кем перекинуться в карты... забить «козла»... Обыкновенные работяги презирают...
Страшно... жить долго страшно.
...Я не историк и даже не гуманитарий. Правда, одно время работал директором театра, нашего городского театра. На какой участок бросала партия, там и служил. Предан был партии. Жизнь мало помню, помню только работу. Страна была стройплощадкой... домной... Кузницей! Так сейчас не работают. Я спал по три часа в сутки. Три часа... Мы отставали от передовых стран на 50-100 лет. На целый век. Сталинский план — догнать за 15-20 лет. Знаменитый сталинский скачок. И мы верили — догоним!
Сейчас люди ни во что не верят, а тогда верили. Легко верили. Наши лозунги: «Ударим революционными мечтами по индустриальной разрухе!», «Большевики должны овладеть техникой!», «Догоним капитализм!». Я дома не жил... жил на заводе... на стройке. Ну да... В два... в три часа ночи мог зазвонить телефон. Сталин не спал, ложился поздно, и, соответственно, мы не спали. Руководящие кадры. Сверху донизу. Имею два ордена и три инфаркта. Был директором шинного завода, начальником стройтреста, оттуда перекинули на мясокомбинат. Заведовал партархивом. После третьего инфаркта дали театр... Наше время... мое... Великое время! Никто для себя не жил. Поэтому обидно...
Брала у меня недавно интервью одна милая барышня. Начала меня «просвещать», в какое страшное время мы жили. Она в книжках читала, а я там жил. Я сам оттуда родом. Из тех лет. И она мне рассказывает: «Вы были рабы. Сталинские рабы». Соплюха! Не был я рабом! Не был! Я сейчас сам не вылезаю из сомнений... Но рабом не был...
У людей каша в голове. Все перемешалось: Колчак и Чапаев, Деникин и Фрунзе... Ленин и царь... Бело-красный салат. Окрошка. Чечетку на гробах отплясывают! Это было великое время! Больше никогда мы не будем жить в такой сильной и большой стране. Я плакал, когда Советский Союз развалился... Нас сразу прокляли. Оклеветали. Победил обыватель. Вошь. Червяк.
Моя Родина — Октябрь. Ленин... социализм... Я любил революцию! Партия — самое дорогое для меня. Я 70 лет в партии. Партбилет — моя библия. (Декламирует). «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем...». Хотели построить Царство Божие на земле. Красивая, но несбыточная мечта, человек еще к этому не готов. Не совершенен он. Ну да... Но от Пугачева и декабристов... до самого Ленина... все мечтали о равенстве и братстве. Без идеи справедливости будет другая Россия и другие люди. Совсем другая будет страна. Мы еще не переболели коммунизмом. Не надейтесь. И мир не переболел. Человек всегда будет мечтать о Городе Солнца. Он еще в шкуре ходил, в пещере жил, а уже хотел справедливости. Вспомните советские песни и советские фильмы... Какая там мечта! Вера... «Мерседес» — это не мечта...
Старый я... давно... Но старость — это тоже интересно. Понимаешь, что человек — животное... животного вдруг обнаруживается много... Это время, как говорила Раневская, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. (Смеется).
Ничего не спасает от старости — ни ордена, ни медали... Не-е-т... Гудит холодильник, стучат часы. Больше ничего не происходит. (Заговорили о внуке. Внук на кухне готовит чай). Дети пошли... у них только компьютер в голове... В девятом классе этот мой внук, он младший, сказал мне: «Про Ивана Грозного читать буду, а про Сталина не хочу. Надоел твой Сталин!». Ничего не знают, а уже надоел.
Проехали! Все проклинают 17-й год. «Дураки! — говорят про нас. — Зачем они революцию делали?». А у меня в памяти... Я помню людей с горящими глазами. Сердца наши горели! Никто мне не верит! Но я-то не сошел сума... Помню... да-а-а... Эти люди ничего не хотели для себя, не было, как теперь, на первом месте — я. Горшок щей... домик... садик... Было — мы. Мы! Мы! Ко мне иногда заходит друг моего сына, профессор университета. За границу ездит, лекции там читает. Ругаемся с ним до хрипоты. Я ему о Тухачевском, а он в ответ: красный командарм тамбовских крестьян газом травил, матросов в Кронштадте вешал. Сначала, говорит, вы постреляли дворян и попов... это в 17-м году... а в 37-м вас самих постреляли...
Уже и до Ленина добрались. Ленина я никому не отдам! С Лениным в сердце умру! Сейчас... Подождите...
Раньше строили флот, покоряли космос, а сейчас — особняки, яхты... Честно признаться, часто ни о чем не думаю. Работает или не работает кишечник? — вот что с утра важно. Так жизнь кончается.
О чем я? О любви... о моей первой жене... Когда у нас родился сын, мы назвали его Октябрем. В честь 10-й годовщины Великого Октября. Я хотел еще дочку. «Если хочешь от меня второго ребенка, значит, любишь, — смеялась жена. — А как мы назовем нашу девочку?». Мне нравилось имя Люблена, оно складывалось из слов «люблю Ленина». Жена выписала на листочке все свои любимые женские имена: Марксана, Сталина, Энгельсина... Искра... Самые модные тогда. Так этот листочек и остался лежать на столе...
...Привели к командиру. «Сколько тебе лет?» — спросил командир. «17», — я соврал. Мне было неполных 16. Так я стал красноармейцем. Нам выдали обмотки и красные звездочки для шапок. Буденновок не было, а красные звездочки выдали. Что за Красная Армия без красных звездочек? Дали винтовки. И мы себя чувствовали защитниками революции. Вокруг — голод, эпидемии. Возвратный тиф... брюшной тиф... сыпняк... А мы — счастливые...
...Из разбитого помещичьего дома кто-то вытащил пианино... Стоит в саду, мокнет под дождем. Пастушки подгонят коров поближе и играют на нем палками. Усадьбу по пьянке сожгли. Разграбили. А кому из мужиков нужно пианино?
...Взорвали церковь... До сих пор в ушах крик старух: «Деточки, не делайте этого!». Умоляли. Цеплялись за ноги. 200 лет церковь простояла. Намоленное место, как говорится. Построили вместо церкви городскую уборную. Священников заставили там убирать. Говно чистить. Сейчас... конечно... сейчас я понимаю... А тогда... весело...
...В поле лежали наши товарищи... На лбу и на груди у них были вырезаны звезды. Красные звезды. Распороты животы, туда насыпана земля: хотели земли — нате! Наши чувства — смерть или победа! Пусть мы умрем, но мы знаем, за что умрем.
...У реки увидели проколотых штыками белых офицеров. Почернели на солнце «их благородия». Из животов торчали погоны... животы набиты погонами... Не жалко! Мертвых людей видел столько, сколько и живых...
Вам жалко... Жалко? (Мне показалось, что на этом наш разговор может и закончиться). Ну да... конечно... «Общечеловеческие ценности»... «абстрактный гуманизм»... Телевизор смотрю, газеты читаю. А у нас милосердие было поповским словом. Бей белого гада! Даешь революционный порядок! Лозунг первых лет революции: загоним железной рукой человечество в счастье! Раз партия сказала — я верю партии! Я верю.
Город Орск под Оренбургом. День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. «Закрывай! — кричит мне комиссар. — Это — кулацкая сволочь! Они для новой жизни не годятся!». Будущее... оно же должно быть красивым...
Потом будет красиво... Ну верил я! (Почти кричит). Мы верили в какую-то красивую жизнь. Утопия... это была утопия... А вы? У вас своя утопия — рынок. Рыночный рай. Рынок всех сделает счастливыми! Химера! Ходят по улицам гангстеры в малиновых пиджаках, золотые цепи до пуза. Капитализм карикатурный, как на картинках в советском журнале «Крокодил». Пародия! Вместо диктатуры пролетариата — закон джунглей: кусай того, кто слабее, а тому, кто сильнее, кланяйся. Самый древний закон на земле..
Сначала арестовали жену... Ушла в театр и домой не вернулась. Возвращаюсь с работы: сын вместе с котом спит на коврике в прихожей. Ждал-ждал маму и уснул. Жена работала на обувной фабрике. Красный инженер. «Что-то непонятное творится, — говорила она. — Забрали всех моих друзей. Это какая-то измена...». — «Вот мы с тобой не виноваты, и нас не берут». Был в этом убежден... Абсолютно убежден... искренне! Сначала я был ленинец, потом сталинец. До 37-го года я был сталинец. Верил всему, что говорил и делал Сталин. Да... величайший... гениальный... вождь всех времен и народов. Даже когда врагами народа объявили Бухарина, Тухачевского, Блюхера, я ему верил. Спасительная мысль... глупая... Я думал так: Сталина обманывают, наверх пробрались предатели. Партия разберется. И вот арестовали мою жену, честного и преданного бойца партии.
Через три дня пришли за мной... Первым делом понюхали в печке: не пахнет ли дымом, не сжег ли я что-нибудь. Их было трое. Один ходил и выбирал себе вещи: «Это вам уже не надо». Настенные часы снял. Меня поразило... я не ожидал... И в то же время что-то в этом было человеческое, внушало надежду. Вот эти человеческие гадости... Да-а-а... Значит, у этих людей есть чувства...
Обыск продолжался с двух часов ночи до утра. В доме было очень много книг, каждую книгу пролистали. Прощупали одежду. Распороли подушки... Времени подумать у меня было достаточно. Вспоминал... лихорадочно... Посадки уже шли массовые. Каждый день кого-то брали. Обстановка страшноватая. Человека взяли, все вокруг молчат. Спрашивать бесполезно.
Следователь на первом допросе мне объяснил: «Вы виноваты уже в том, что не донесли на свою жену». Но это уже в тюрьме... А тогда все в памяти перебрал. Все... Одно только вспомнил... Вспомнил последнюю городскую партконференцию... Зачитали приветствие товарищу Сталину, и весь зал встал. Шквал оваций: «Слава товарищу Сталину — организатору и вдохновителю наших побед!», «Сталину — слава!», «Слава вождю!». 15 минут... полчаса... Все оборачиваются друг на друга, но никто первый не садится. Все стоят. Я почему-то сел. Машинально. Подходят ко мне двое в штатском: «Товарищ, почему сидите?». Я вскочил! Вскочил как ошпаренный. Во время перерыва все время оглядывался. Ждал, что сейчас подойдут и арестуют... (Пауза).
К утру обыск кончился. Команда: «Собирайтесь». Няня разбудила сына... Перед уходом я успел шепнуть ему: «Никому не рассказывай про папу и маму». Так он выжил. (Придвигает диктофон поближе к себе). Записывайте, пока жив... «П. ж.»... «пока жив»... пишу на поздравительных открытках. Некому уже, правда, посылать... Меня часто спрашивают: «Почему вы все молчали?». — «Время такое было». Я считал, что виноваты предатели — Ягода, Ежов, — но не партия. Через 50 лет легко судить. Хихикать... над старыми дураками... В то время я шагал вместе со всеми, а теперь их никого нет...
...Месяц просидел в одиночке. Такой каменный гроб — к голове шире, к ногам поуже. Ворона к своему окну приручил, кормил перловкой из похлебки. С тех пор ворон — моя любимая птица. На войне... Бой окончен. Тишина. Раненых подобрали, одни мертвые лежат. Другой птицы нет, а ворон летает.
...На допрос вызвали через две недели. Знал ли я, что у жены есть сестра за границей? «Моя жена — честный коммунист». На столе у следователя лежал донос, подписанный — я не поверил! — нашим соседом. Я узнал почерк. Подпись. Мой товарищ был, можно сказать, с Гражданской войны. Военный... в высоком звании...
Немного был даже влюблен в мою жену, я ревновал. Ну да... ревновал... Жену я крепко любил... свою первую жену... Следователь подробно пересказывал мне наши разговоры. Я понял, что не ошибся... да, это сосед... все разговоры были при нем... История моей жены такая: она из-под Минска. Белоруска. После Брестского мира часть белорусских земель отошла к Польше. Там остались ее родители. Сестра. Родители скоро умерли, а сестра писала нам: «Я лучше поеду в Сибирь, чем оставаться в Польше». Хотела жить в Советском Союзе. Тогда коммунизм был популярен в Европе. Во всем мире. Многие в него верили. Не только простые люди, но и западная элита. Писатели: Арагон, Барбюс... Октябрьская революция была «опиумом для интеллектуалов». Где-то читал... теперь много читаю. (Передышка). Моя жена — «враг»... Значит, нужна «контрреволюционная деятельность»... Хотели сфабриковать «организацию»... «террористическое подполье»... «С кем ваша жена встречалась? Кому передавала чертежи?» Какие чертежи! Я все отрицал. Били. Топтали сапогами. Все — свои. У меня партбилет, и у них — партбилет. И у моей жены — партбилет.
...Общая камера... В камере — 50 человек. По нужде выводили два раза в день. А в остальное время? Как даме объяснить? У входа стояла огромная бадья... (Зло). Попробуйте сесть и посрать при всех! Кормили селедкой и не давали воды. 50 человек... Английские... японские шпионы... Деревенский старик, безграмотный... Его посадили за пожар на конюшне. Сидел студент за анекдот... На стене висит портрет Сталина. Докладчик читает реферат о Сталине. Хор поет песню о Сталине. Артист декламирует стихотворение о Сталине. Что это такое? Вечер, посвященный столетию со дня смерти Пушкина. (Я смеюсь, а он не смеется). Студент получил 10 лет лагерей без права переписки. Был шофер, арестованный за то, что похож на Сталина. И вправду был похож. Заведующий прачечной, беспартийный парикмахер, шлифовальщик... Больше всего простых людей. Но был и ученый-фольклорист. Ночью он рассказывал нам сказки... детские сказки... И все слушали. На фольклориста донесла его собственная мать. Старая большевичка. Один раз только она передала ему папиросы перед этапом. Да-а-а... Сидел старый эсер, он открыто радовался: «Как я счастлив, что и вы, коммунисты, тут сидите и ничего, как и я, не понимаете». Контрик! Я думал, что советской власти уже нет. И Сталина — нет.
Все отобрали: ремень, шарф, шнурки из ботинок выдернули, а убить себя все равно можно. Была такая мысль. Ну да... была... Задушить себя брюками или резинкой от трусов. Били по животу мешком с песком. Все из меня вылезало, как из червяка. Подвешивали на крюки. Средневековье! Из тебя течет, ты свой организм уже не контролируешь. Отовсюду течет... Выдержать эту боль... Стыд! Умереть проще... (Передышка).
Встретил в тюрьме своего старого товарища... Николай Верховцев, член партии с 1924 года. Он преподавал на рабфаке. Все знакомые... в близком кругу... Кто-то читал вслух газету «Правда», и там информация: на бюро ЦК слушался вопрос об оплодотворении кобылиц. Ну он возьми и пошути, что у ЦК, мол, дел других нет, как только оплодотворением кобылиц заниматься. Днем он это сказал, а ночью его уже взяли. Пальцы рук ему зажимали дверью, сломали пальцы, как карандаши. Держали сутками в противогазе. (Молчит).
Непонятно, как сегодня об этом рассказывать... В общем-то, варварство. Унизительно. Ты — кусок мяса... лежишь в моче... Верховцеву попался следователь-садист. Они не все были садисты... Сверху им спускали лимит, план на врагов — месячный и годовой. Вот они меняются, пьют чай, звонят домой, флиртуют с медичками, которых вызывают, когда человек от пыток теряет сознание. У них дежурство... смена... А у тебя вся жизнь перевернулась. Такие вещи...
Следователь, который вел мое дело, был раньше директором школы, он меня убеждал: «Наивный вы человек. Мы вас шлепнем и составим акт — при попытке к бегству. Вы знаете, что Горький сказал: «Если враг не сдается, его уничтожают». — «Я — не враг». — «Поймите: нам не страшен только человек раскаявшийся, человек разрушившийся». Мы с ним дискутировали на эту тему... Второй следователь был кадровый офицер. Чувствовалось, что ему лень все эти бумажки заполнять. Они все время что-то писали. Один раз он дал мне папиросу.
Люди сидели подолгу. Месяцами. Между палачами и жертвами завязывались человеческие... ну, человеческими их не назовешь, но какие-то все-таки отношения. Но одно не исключало другого... «Подпишите». Читаю протокол. — «Я этого не говорил». Бьют. Старательно бьют. Их всех потом самих расстреляли. Отправили в лагеря.
Это было утром... Открывается камера. Команда: «На выход!». Я — в одной рубашке. Хочу одеться. «Нет!». Ведут в какой-то подвал... Там уже ждет следователь с бумагой: «Подпишете — да или нет?». Отказываюсь. «Тогда — к стенке!». Бах! Выстрел поверх головы... «Ну как — подпишете?». Бах! И так три раза. Ведут назад, по каким-то лабиринтам... оказывается, в тюрьме столько подвалов! Я не подозревал. Водили так, чтобы заключенный ничего не увидел. И никого не узнал. Если кто-то идет навстречу, конвоир дает команду: «Мордой к стенке!». Но я уже был опытный. Подсматривал. Так я встретился со своим начальником на курсах красных командиров. И со своим бывшим профессором в совпартшколе... (Молчит).
С Верховцевым мы были откровенны: «Преступники! Советскую власть губят. Они ответят за это». Несколько раз его допрашивала женщина-следователь: «Когда меня пытают, она становится красивой. Ты понимаешь, она тогда красивая». Впечатлительный человек. Это от него я узнал, что Сталин в юности писал стихи... (Закрыл глаза). Я сейчас, бывает, просыпаюсь в холодном поту: и меня могли направить на работу в НКВД. И я бы пошел. У меня партбилет в кармане. Красная книжечка.
В тюрьме я просидел без малого год. Уже готовился к суду. К этапу. Удивлялся: чего они со мной тянут? Как я понимаю, никакой логики у них не было. Тысячи дел... Хаос... Через год меня вызвал новый следователь... Мое дело отдают на пересмотр. И меня отпускают, сняли все обвинения. Значит, ошибка. Партия мне верит!
Сталин был великий режиссер... Как раз в это время он убрал «кровавого карлика», наркома Ежова. Его судили. Расстреляли. Началась реабилитация. Народ вздохнул: до Сталина дошла правда... А это была всего лишь передышка перед новой кровью... Игра! Но все поверили. И я поверил. Прощаюсь с Верховцевым... Он показывает свои сломанные пальцы: «А я здесь уже 19 месяцев и семь дней. Никто меня отсюда не выпустит. Побоятся».
Николай Верховцев... член партии с 1924 года... расстрелян и 41-м году, когда немцы подходили к городу. Энкаведисты расстреляли всех заключенных, которых не успели эвакуировать. Выпустили уголовную шпану, а все «политические» подлежали ликвидации как предатели. Немцы вошли в город и открыли ворота тюрьмы — там лежала гора трупов. Жителей города, пока трупы не стали разлагаться, гоняли к тюрьме — смотреть на советскую власть.
Сына я нашел у чужих людей, няня увезла его в деревню. Он заикался, боялся темноты. Стали жить с ним вдвоем. Я добивался каких-нибудь сведений о жене. И одновременно — восстановления в партии. Чтобы мне вернули мой партбилет. Новый год... В доме нарядная елка. Ждем с сыном гостей. Звонок в дверь. Открываю. Стоит на пороге плохо одетая женщина: «Я пришла передать вам привет от вашей жены». — «Жива!». — «Год назад была жива. Одно время я работала с ней в свинарнике. Воровали у свиней мороженую картошку, благодаря этому не сдохли. Жива ли она сейчас, не знаю». Быстро ушла. Я ее не задерживал... должны были прийти гости... (Молчит). Бой курантов. Открыли шампанское. Первый тост «За Сталина!». Да-а-а...
41-й год...
Все плакали... А я орал от счастья — война! Я пойду на войну! Уж это-то мне позволят. Отправят. Стал проситься на фронт. Меня долго не брали. Военком был знакомый: «Не могу. У меня на руках инструкция — «врагов» не брать». — «Это кто враг? Я — враг?». — «Твоя жена отбывает наказание в лагере по 58-й статье — контрреволюционная деятельность». Пал Киев... бои под Сталинградом... Я завидовал любому человеку в военной форме — он защищает родину! Девушки уходили на фронт... А я? Пишу письмо в райком партии: расстреляйте или пустите на фронт! Через два дня мне вручили повестку — в 24 часа явиться на сборный пункт. Война была спасением... единственный шанс вернуть себе честное имя. Я радовался.
...Под Курском встретил своего следователя. Бывшего директора школы... У меня была мысль: «Ну, теперь, сволочь, ты у меня в руках. В бою пристрелю тихо». Было... Ну да... Хотел. Не успел. Мы с ним даже один раз разговаривали. «Родина у нас одна» — его слова. Смелый был человек. Геройский. Погиб под Кенигсбергом. Что сказать... Могу сказать... я подумал, что Бог сделал мое дело... Врать не буду...
Вернулся домой дважды раненый. С тремя орденами и медалями. Меня вызвали в райком партии: «К сожалению, жену мы вам вернуть не можем. Жена погибла. Но честь мы вам возвращаем...». Мне отдали мой партбилет. И я был счастлив! Я был счастлив...
(Разозлился). Вы думаете, что нам коммунизм, эту заразу, как пишут в сегодняшних газетах, в пломбированном вагоне из Германии привезли? Что за ерунда! Народ восстал. Не было того «золотого века» при царе, о котором сейчас вдруг вспомнили. Сказки! И о том, что Америку хлебом кормили, и что судьбы Европы решали. Умирал русский солдат за всех — это правда. А жили... У нас в семье на пятерых детей были одни боты. Ели картошку с хлебом, а зимой — без хлеба. Одну картошку... А вы спрашиваете: откуда взялись коммунисты?
Я столько помню... А зачем? Зачем, а? Что теперь мне с этим делать? Мы любили будущее. Будущих людей. Спорили, когда это будущее наступит. Через 100 лет — точно. Но нам это казалось слишком далеко... (Передышка)».
Я выключаю диктофон.
«Без диктофона... Хорошо... Мне надо кому-то вот это рассказать...
Мне было 15 лет. Приехали к нам в деревню красноармейцы. На конях. Пьяные. Продотряд. Спали они до вечера, а вечером собрали всех комсомольцев. Выступил командир: «Красная Армия голодает. Ленин голодает. А кулаки прячут хлеб. Жгут». Я знал, что мамкин родной брат... дядька Семен... завез в лес мешки с зерном и закопал. Я — комсомолец. Клятву давал. Ночью я пришел в отряд и повел их к тому месту. Нагрузили они целый воз. Командир руку мне пожал: «Расти, брат, скорей». Утром я проснулся от мамкиного крика: «Семенова хата горит!». Дядьку Семена нашли в лесу... порубили его красноармейцы шашками на куски... Мне было 15 лет. Красная Армия голодает... Ленин... Боялся выйти на улицу. Сидел в хате и плакал. Мамка обо всем догадалась. Ночью дала мне в руки торбочку: «Уходи, сынок! Пусть Бог тебя простит, несчастного». (Закрыл рукой глаза. Но я все равно вижу — плачет).
Хочу умереть коммунистом. Последнее мое желание...».
В 90-е годы я опубликовала только часть этой исповеди. Мой герой дал рассказ кому-то почитать, с кем-то посоветовался, и его убедили, что полная публикация «бросит тень на партию». А этого он боялся больше всего. После его смерти нашли завещание: свою большую трехкомнатную квартиру в центре города он завещал не внукам, а «для нужд любимой Коммунистической партии, которой я обязан всем». Об этом даже написали в вечерней городской газете. Такой поступок был уже непонятен. Все посмеивались над сумасшедшим стариком. Памятник на его могиле так никто и не поставил.
Теперь решила напечатать рассказ полностью. Все это уже принадлежит больше времени, чем одному человеку».
«А что это — вдохновение? По-моему, какое-то слово красивое, а на самом-то деле за ним серьезная, одинокая, жесткая, я бы сказала, работа»
— Помню, во время перестройки ваши книги огромными тиражами выходили — когда-нибудь ради интереса их суммарный тираж вы подсчитывали?
— Нет, я даже не представляю, какой он... Знаю, что в мире у меня около 200 изданий, что во Франции 300 тысяч экземпляров «Чернобыльской молитвы» разошлись, что «Время секонд хэнд» повсюду очень сейчас популярно. Впрочем, к этому иначе я отношусь, формальные вещи меня не занимают. Мне главное — что-то сделать, идеи какие-то сформулировать, а дальше это уже неинтересно, вперед идти надо.
— Вы по вдохновению пишете или системно — то есть знаете, что в определенное время вам нужно за стол сесть и работать?
— Да по-всякому, по-всякому...

— Вдохновение, тем не менее, навещает?
— А что это — вдохновение?
— Вот!..
— Это, по-моему, какое-то такое слово красивое, а на самом-то деле за ним серьезная, одинокая, жесткая, я бы даже сказала, работа.
— Одинокая — здорово!
— Ну а что ж тут нового? Это не коллективный труд — за столом...
— Среди своих учителей вы в первую очередь Алеся Адамовича и Василя Быкова называете. Быков, на мой взгляд, крупнейший писатель, чье творчество совершенно выбивается из общего ряда советской фронтовой прозы, и лично на меня когда-то сильнейшее впечатление произвел. И фильмы прекрасные по его произведениям снимали, а каким человеком Василь Владимирович был?
— Очень хорошим, но замкнутым, живущим в себе. Он серьезно от КГБ пострадал, и поэтому какой-то круг близких ему людей очертил и за пределы его не выходил. Видите ли, любая слава — вещь утомительная: себе вы не принадлежите, поэтому он достаточно жестко себя охранял, и думаю, это очень разумно было. Я сейчас его особенно хорошо понимаю, потому что... Потому что просто нет смысла, чтобы какая-то публичность легкомысленная тебя сожрала.
— Как вы думаете, писатель — мужская профессия?
— Не знаю. Вот Марина Цветаева — мужчина или женщина?
— Мужчина...
— Как она пишет: по-мужски или по-женски? Да, вы знаете, разные возможны варианты, а что касается меня, думаю, надо в разных быть лицах. Сейчас вот я книгу пишу, где мужчины и женщины о любви рассказывают, и сложнее всего рассказы мужчин мне даются, потому что они... Понять их, точно вопрос им задать я не могу, потому что они...
— ...не логичны?
— Не в логике дело: они как-то самого себя в себя не пускают — вот так бы я выразилась. Такой пример: как-то в такси я нечаянно с попутчицей разговорились, поняла, что это очень интересный собеседник, мы о встрече условились, и я к ней пришла. Эта женщина с мужем лет 10 назад развелась, и когда мы поговорили (это очень интересно было!), она предложила: «Хотите, я его в следующий раз позову и мы вдвоем пообщаемся?». — «Да, конечно», — ответила я: мне всегда два рассказа столкнуть хотелось...
— Интересная идея...
— Ну, прием не новый — это и в кино, и везде делалось: когда реальная история есть, всегда интересно, — и вот он пришел. Достаточно симпатичный человек: и культура на высоте, и мне показалось, что интеллектуал — он физиком, если не ошибаюсь, был. Я ему один вопрос задаю, другой (бывшая жена канву их отношений, историю разрыва уже рассказала), а он почти ничего не помнит. Она говорит: «Ты что, забыл, как по водосточной трубе с букетом цветов в зубах лез?». Он: «Неужели я таким идиотом был?» — приблизительно так. Любовь — это некий невидимый третий, которого я только тень вижу, а поймать пока не могу.
«Все время остановить хотят, потому что дальше еще страшнее будет»
— Любопытно, а какова сегодня в современном мире при наличии интернета и совершенно оболванивающего телевидения роль писателя? ХIХ век — это Лев Толстой, ХХ-й — Солженицын, допустим (при всей его неоднозначности): все-таки какое влияние он на поколение оказал! Сегодня писатель так на огромные массы людей воздействовать может?
— Думаю, да. Вы знаете, в массовом сознании путаница происходит, тайна человеческая и информация — разные совершенно вещи, и вот то, что вы назвали: телевидение, газеты — к человеческой тайне никакого отношения не имеет. Гигабайты эти — верхний слой, бессмысленный, а писатель человеческой тайной занимается, и если ее большой писатель разгадывает, это интересно всегда.
— Кто из писателей вам нравится?
— Из современных русских Оля Седакова, наверное, — она и поэтесса, и богослов... У нее какая-то чистая интонация, ни примитивной социальности, ни агрессивной религиозности, которой сейчас у нас очень много и которая смысл всего только затеняет, в ней нет. Оля очень образованная — это пример того, чего в нашей культуре так не хватает.
— Кого-нибудь из писателей прошлого вы перечитываете, чей-то томик снова открыть вас тянет?
— Я вообще не читаю, вернее, беллетристики читаю мало. Только Толстого и Достоевского — ну и Чехова еще.
— Толстой, на ваш взгляд, не устарел, для сегодняшнего времени не тяжеловесен?
— Да бросьте! Что под этим словом вы понимаете? А Библия для сегодняшнего времени тяжеловесна?
— Логично...
— То же о Достоевском еще в большей степени можно сказать — он настолько глубок и настолько из нашей жизни подпольный смысл достает, что современному человеку (массовому — говорить об интеллектуале не будем) погружаться во все это, конечно, не хочется, и он хнычет: «О, это кошмар! Толстой-то прост, Чехов — ну тоже не сложен»... Знаете, все это мелкотравчатое такое, одним словом — массовка, а я думаю, что русская литература действительно великая: чего один только Лесков стоит, Герцен...
— ...Островский, Салтыков-Щедрин — абсолютно актуальные, современные классики...
— Салтыков-Щедрин — да, безусловно.
— На ваш взгляд, интернет литературу когда-нибудь победит или нет?
— Ну тем, что книга умрет, в Европе уже лет 25 назад пугали, а сейчас наоборот: интерес там к ней огромный.
— К бумажной книге?
— Да.
— И тиражи растут?
— Растут, так что страхи напрасны...
— Чем же вы это объясняете? Тоской по настоящему?
— Тем, что человеку в одиночестве о чем-то серьезно подумать следует, потому что жизнь сегодня слишком непонятна. Никакие объяснения не годятся, никто предсказать будущее не рискнет, и если раньше его ждали, то теперь боятся...
— ...намного вперед загадывать...
— Не загадывать, а все время остановить хотят, потому что дальше еще страшнее будет.
— Вы о Нобелевской премии говорили, о том, что, естественно, не могли (да и кто мог?) свое лауреатство предположить, а кто вас на эту премию выдвинул?
— Знаете, это все-таки вещи деликатные, почти не афишируемые... По-моему, несколько организаций заявку подали, я не в курсе. Через 50 лет точно узнаем, но это давно, еще с 2013 года, тянулось.
— Вы ведь уже тогда в номинации были?
— Да.
— Момент, когда о присуждении вам Нобелевской премии узнали, помните?
— Конечно! Я гладила — совершенно обыденной вещью занималась. Перед этим много звонков было, все чего-то ждали, но я спокойно к этому относилась...
— ...и спокойно гладили...
— Ну да! Мне постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус позвонила и сообщила...
— Утюг из рук не выпал?
— Нет-нет, ничего не выпало.
— Эмоции обычные были?
— Ну почему обычные? Совсем нет. Понимаете... Ну как бы вам на вашем мужском языке сказать... Если женщина, которую вы любите, взаимностью вам ответила, могут ли у вас обычные, заурядные эмоции быть?
— Извините, конечно, но присуждение Нобелевской премии, наверное, поболе значит, чем ответ «да» из уст женщины?
— Я думаю, наша единственная жизнь важнее внешних регалий.
«Деньги я использую, чтобы не служить, чтобы заниматься тем, чем хочу. Они мне для свободы нужны»
— Церемония награждения красивой была?
— Очень. Стокгольмский концертный зал, где она проходила, огромный, за столько лет (Нобелевская премия с 1901 года вручается. — Д. Г.) все уже до мельчайших деталей отточено...
— Деньги в чужих карманах считать плохо (я этого не люблю), тем не менее... Сын лауреата Нобелевской премии академика Петра Капицы Сергей Петрович рассказывал мне, на что его отец премию потратил. Там около миллиона долларов, да? На них он внукам квартиры в Москве купил, а вы для себя определили, на что такая внушительная сумма пойдет?
— Приблизительно на это же.
— Миллион или около того получив, богатой вы себя ощутили?
— Да не думала я про это, просто... Понимаете, я давно живу независимо — фрилансом хорошие деньги зарабатываю, а использую их, чтобы не служить, чтобы заниматься тем, чем хочу. Они мне для свободы нужны.
— Писавшие на русском языке лауреаты Нобелевской премии по литературе — это Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, Бродский и вы... Никого не забыл?
— Вроде нет.
— Какая, однако, когорта!
— Да, тени великих — чего уж тут говорить...
— Вы понимаете, в какой блистательной компании оказались?
— Это не понимаешь, а на подсознательном уровне ощущаешь... Во-первых, как вам сказать, это непередаваемое счастье, когда большое дело ты сделал и мир тебя услышал — вообще, фантастика! Я же осознаю, что множество больших писателей эту премию не получили, хотя должны были бы. Тут как небеса распорядятся — много факторов должно совпасть, но, если честно, я об этом меньше всего думаю, мысли у меня о другом. Я вот новую книгу пишу, и перед белым листом бумаги опять в раздумьях, в растерянности.
— И ответственность огромная уже давит...
— Даже не в этом проблема — ответственность всегда была, но сейчас очень много времени внешняя сторона жизни жрет.

— На постсоветском пространстве вы давно и очень хорошо известны, но присуждение Нобелевской премии — это другой совершенно этап, новый виток, выход на планетарный уровень. Всемирную известность вы ощутили? В чем она проявилась?
— На улицу выйти нельзя — вот в чем... Или в самолете летишь, со знакомым разговариваешь — то есть ситуация, когда, казалось бы, можно обо всем свободно высказываться, а назавтра это в газете читаешь, так что достаточно некомфортно себя чувствуешь, скажем прямо.
— Таким образом хорошего в вашем нынешнем статусе, на самом деле, меньше оказалось?
— Нет, это не так, просто неожиданно как-то все навалилось. Надо все-таки с этим жить научиться, необходимое для работы одиночество сохранить.
«Говорят, в тот день, когда о присуждении мне премии объявили, — в Минске все шампанское выпили»
— В Белоруссии до сих пор вас не замечают, делают вид, что такой писательницы нет, или перемены какие-то все-таки произошли?
— Власть в упор не видит, но люди замечают, конечно, реакция народа просто потрясающая. Говорят, что 8 октября — в тот день, когда о присуждении мне премии объявили, в Минске все шампанское выпили, в офисах отмечали бурно. Ну знаете, что такое власть? Русские художники, если слово «русский» ко мне применимо, в конфликте с властью всегда жили, еще со времен князя Курбского...
— Если этого боярина, которого переписка с Иваном Грозным прославила, художником можно назвать...
— Да, так что ничего нового.
— Лукашенко, тем не менее, поздравил...
— ...а через два дня сказал, что на белорусский и русский народы я клевещу.
— Он лично вам позвонил?
— Нет, об этом по телевизору объявили, но Лукашенко это после Горбачева сделал, после немецкого президента, французского, после Порошенко, кстати.
— Вы с Александром Григорьевичем когда-нибудь встречались?
— Нет.
— А желание есть?
— Да оно всегда присутствует... Вот у меня возможность была с Путиным в рамках Дней русской литературы во Франции встретиться. Некоторые писатели говорили: «Нет, нет, нет! — ни за что не пойдут», а я пошла, мне это интересно.
— Встретились с ним и...
— Понимаете, это все какие-то полуофициальные вещи — понаблюдать за первым лицом только со стороны можно. Думаю, они — несчастные люди: ни с кем поговорить не могут, да ничего не могут — перед глазами калейдоскоп лиц, мельтешение какое-то. Я даже не знаю, какая у них душа, представить себе этого не могу...
— ...и есть ли она...
— Ну, думаю, есть, что-то, наверное, им боль причиняет — они все-таки люди, а с точки зрения искусства, вы знаете, все интересны: и палач, и жертва.
— В чем, на ваш взгляд, феномен Лукашенко — как удается ему столько лет бессменно во главе Белоруссии удерживаться?
— Я это знать тоже хотела бы, для меня это загадка. Наверное, причина в характере нашего народа — думаю, в этом.
— Это правда, что Лукашенко в свое время лидером объединенных России и Белоруссии хотел стать?
— Говорят, что да, — при Ельцине, но теперь навряд ли у него шансы есть: там у власти посильнее ребята.
(Окончание в следующем номере)

 Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...»
Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...» Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?»
Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?» Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались» Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»
Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»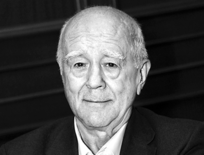 Метание понтов
Метание понтов Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!»
Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги