Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Академик Александров говорил, что чернобыльский реактор, как самовар, безопасен — можно хоть на Красной площади ставить»


(Продолжение. Начало в № 38)
«Куда вы?» — «Яйца идем хоронить!»
— Уже 30 лет со дня Чернобыльской катастрофы исполнилось, а я так хорошо это помню, будто все вчера было. Работая над книгой «Чернобыльская молитва», вы наверняка много размышляли о том, что же в Чернобыле случилось. Это, на ваш взгляд, масштабная техногенная авария из-за человеческого фактора или уже нечто большее?
— Как вам сказать... Вы знаете, мы с вами в разных интонациях существуем, да?
— Но придем к одной...
— Ну, я надеюсь... Видите ли, книгу о Чернобыле можно было за год-два, даже за несколько месяцев написать, но когда я туда поехала, ощутила: того, что произошло, мы не понимаем. В первые месяцы я видела, как вокруг Чернобыля солдаты с автоматами бегают, полно военной техники в зону нагнали. Я спрашивала: «Что тут военная техника делает, что делают солдаты с автоматами — в кого они могли там стрелять и от кого защитить? От физики, от невидимых частиц?».
Никто ничего не понимал... В деревню приедешь — там за околицей большая яма выкопана, по улице идешь — навстречу солдат с перекошенным лицом старую женщину конвоирует. «Куда вы?» — спрашиваю. «Яйца идем хоронить», — и решето показывает, а чуть дальше кто-то молоко конвоирует. Такие меры принимать приходилось, потому что люди в неведении находились, произошло нечто, чего наша культура — не русская, украинская или белорусская, а человеческая! — не знала, и мне сразу ясно стало, что это, в общем-то, интеллектуальная проблема большая.
Чтобы литературу настоящую сделать, надо было не просто весь этот трагизм, чуть-чуть переварив, выдать — нет! Тут все сойтись должно было, и особую остроту ситуации новизна происходящего придавала — стало ясно, что мы, обычные люди, вдруг в будущем оказались. Недавно вот авария на атомной станции Фукусима произошла... Судя по рассказам, им уже легче было, потому что мир Чернобыль уже пережил, понимаете? — а тут глаза радиацию не видят, запаха у нее нет, дотронуться нельзя, слова, чтобы выразить это, отсутствуют. Все вокруг двигалось, шумело, ворчало — люди, техника прибывали, и что и во имя чего, никто не знал, растерянны даже ученые были...
— Включая академика Александрова — научного руководителя проекта этих АЭС...
— Да кто такой Александров? — как раз он больше всего в случившемся повинен! Этот человек говорил, что наш реактор, как самовар, безопасен — можно хоть на Красной площади ставить.
— Он же Щербицкому сказал, что может детям и внукам на Чернобыльской станции раскладушки поставить, чтобы там ночевали...
— Ну, это пример того, что утопия с людьми делала. Она их, скажем так, оглупляла, потому что серьезный ученый, если только в ловушке коммунистической культуры не находился, элементарными вопросами задался бы, теми, что я задалась: «Что такое мирный атом? Вправе ли мы вызов всему живому бросить? То ли место человек в природе занял?». Он бы такие глупости не говорил...

Из книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».
«Я не знаю, о чем рассказывать... О смерти или о любви? Или это одно и то же... О чем?
...Мы недавно поженились. Еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Всегда вдвоем. Я говорила ему: «Я тебя люблю». Но я еще не знала, как я его любила... Не представляла... Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил. На втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже, стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе: где он, что с ним? Среди ночи слышу какой-то шум. Крики. Выглянула в окно. Он увидел меня: «Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду».
Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно светилось... Все небо... Высокое пламя. Копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть оттого, что битум горел, крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал, как по смоле. Сбивали огонь, а он полз. Поднимался. Сбрасывали горящий графит ногами... Уехали они без брезентовых костюмов, как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили, их вызвали на обыкновенный пожар...
Четыре часа... Пять часов... Шесть... В шесть мы с ним собирались ехать к его родителям. Сажать картошку. От города Припять до деревни Сперижье, где жили его родители, 40 километров. Сеять, пахать... Он это любит... Мать часто вспоминала, как не хотели они с отцом отпускать его в город, даже новый дом построили. Забрали в армию. Служил в Москве в пожарных войсках, и когда вернулся — только в пожарники! Ничего другого не признавал. (Молчит).
Иногда будто слышу его голос... Живой... Даже фотографии так на меня не действуют, как голос. Но он никогда меня не зовет. И во сне... Это я его зову...
Семь часов... В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция, никого не пускали. Одни машины «Скорой помощи» заезжали. Милиционеры кричали: к машинам не приближайтесь, счетчики зашкаливают! Не одна я, все жены прибежали, все, у кого мужья в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую, она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины: «Пропусти меня!». — «Не могу! С ним плохо. С ними со всеми плохо». Держу ее: «Только посмотреть». — «Ладно, — говорит, — тогда бежим. На 15-20 минут». Я увидела его... Отекший весь, опухший... Глаз почти нет... «Надо молока. Много молока! — сказала мне знакомая. — Чтобы они выпили хотя бы по три литра». — «Но он не пьет молоко». — «Сейчас будет пить». Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы через какое-то время заболеют. Умрут. Но никто тогда этого не знал...
В 10 утра умер оператор Шишенок... Он умер первым... В первый день... Мы узнали, что под развалинами остался второй — Валера Ходемчук. Так его и не достали. Забетонировали. Но мы еще не знали, что они все будут первыми...
Спрашиваю: «Васенька, что делать?». — «Уезжай отсюда! Уезжай! У тебя будет ребенок». Я — беременная. Но как я его оставлю? Просит: «Уезжай! Спасай ребенка!». — «Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим».
Прибегает моя подруга Таня Кибенок... Ее муж в этой же палате. С ней ее отец, он на машине. Мы садимся и едем в ближайшую деревню за молоком, километра три за город... Покупаем много трехлитровых банок с молоком... Шесть — чтобы хватило на всех... Но от молока их страшно рвало... Все время теряли сознание, им ставили капельницы. Врачи почему-то твердили, что они отравились газами, никто не говорил о радиации. А город заполнился военной техникой, перекрыли все дороги. Везде солдаты. Перестали ходить электрички, поезда. Мыли улицы каким-то белым порошком... Я волновалась, как же мне завтра добраться в деревню, чтобы купить ему парного молока? Никто не говорил о радиации... Одни военные ходили в респираторах... Горожане несли хлеб из магазинов, открытые кулечки с конфетами. Пирожные лежали на лотках... Обычная жизнь. Только... Мыли улицы каким-то порошком...
Вечером в больницу не пропустили... Море людей вокруг... Я стояла напротив его окна, он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно! В толпе кто-то расслышал: их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили: поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям! Не имеете права! Бились, царапались. Солдаты, уже стояла цепь в два ряда, нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву, но нам нужно принести им одежду, — та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили, и мы бегом — через весь город. Прибежали с сумками, а самолет уже улетел. Нас специально обманули. Чтобы мы не кричали, не плакали...
Ночь... По одну сторону улицы автобусы, сотни автобусов (уже готовили город к эвакуации), а по другую сторону — сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица — в белой пене. Мы по ней идем... Ругаемся и плачем...
По радио объявили: город эвакуируют на три-пять дней, возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы, будете жить в лесах. В палатках. Люди даже обрадовались — поедем на природу! Встретим там Первое мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки, покупали вино. Брали с собой гитары, магнитофоны. Любимые майские праздники! Плакали только те, чьи мужья пострадали.
Не помню, как доехала... Будто очнулась, когда увидела его мать: «Мама, Вася в Москве! Увезли специальным самолетом!». Но мы досадили огород — картошку, капусту (а через неделю деревню эвакуируют!). Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я — на шестом месяце беременности. Мне так плохо... Ночью снится, что он меня зовет, пока он был жив, звал меня во сне: «Люся! Люсенька!». А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу... (Плачет). Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву одна... «Куда ты такая?» — плачет мать. Собрали в дорогу и отца: «Пусть довезет тебя». Сняли со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги.
Дороги не помню... Дорога опять выпала из памяти... В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники, и он нам сказал, я даже удивилась, потому что нас пугали: государственная тайна, совершенно секретно.
Шестая больница — на «Щукинской»...
В эту больницу, специальную радиологическую, без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру, и тогда она говорит: «Иди». Сказала, какой этаж. Кого-то я опять просила, молила... И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением — Ангелины Васильевны Гуськовой. Тогда я еще не знала, как ее зовут, ничего не запоминала. Я знала только, что должна его увидеть. Найти.
Она сразу меня спросила:
— Миленькая моя! Миленькая моя... Дети есть?
Как я признаюсь?! И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустит к нему! Хорошо, что я худенькая, ничего по мне незаметно.
— Есть, — отвечаю.
— Сколько?
Думаю: «Надо сказать, что двое. Если один — все равно не пустит».
— Мальчик и девочка.
— Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай: центральная нервная система поражена полностью, костный мозг поражен полностью...
«Ну, ладно, — думаю, — станет немножко нервным».
— Еще слушай: если заплачешь — я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Близко не подходить. Даю полчаса.
Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе!
Захожу... Они сидят на кровати, играют в карты и смеются.
— Вася! — кричат ему.
Поворачивается:
— О, братцы, я пропал! И здесь нашла!
Смешной такой, пижама на нем 48 размера, а у него — 52-й. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла... Им вливали какой-то раствор...
— А чего это ты вдруг пропал? — спрашиваю.
И он хочет меня обнять.
— Сиди-сиди, — не пускает его ко мне врач. — Нечего тут обниматься.

Как-то мы это в шутку превратили. И тут уже все сбежались, и из других палат тоже. Все наши. Из Припяти. Их же 28 человек самолетом привезли. Что там? Что там у нас в городе? Я отвечаю, что началась эвакуация, весь город увозят на три или пять дней. Ребята молчат... А там были еще две женщины, одна из них на проходной в день аварии дежурила, и она заплакала:
— Боже мой! Там мои дети. Что с ними?
Мне хотелось побыть с ним вдвоем, ну пусть бы одну минуточку. Ребята это почувствовали, каждый придумал какую-то причину, и они вышли в коридор. Тогда я обняла его и поцеловала. Он отодвинулся:
— Не садись рядом. Возьми стульчик.
— Да, глупости все это, — махнула я рукой. — А ты видел, где произошел взрыв? Что там? Вы ведь первые туда попали...
— Скорее всего, это вредительство. Кто-то специально устроил. Все наши ребята такого мнения.
Тогда так говорили. Думали.
На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор. Общаться друг с другом. Перестукивались через стенку: точка-тире, точка-тире... Точка... Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения, и то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, «зашкаливали» даже стены. Слева, справа и этаж под ними... Там всех выселили, ни одного больного... Под ними и над ними никого...
Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили: бери кастрюлю, бери миску, бери все, что тебе надо, не стесняйся. Это такие оказались люди... Такие! Я варила бульон из индюшки, на шесть человек. Шесть наших ребят... Пожарников... Из одной смены... Они все дежурили в ту ночь: Ващук, Кибенок, Титенок, Правик, Тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила... Я удивляюсь теперь своим знакомым, они, конечно, боялись, не могли не бояться, уже ходили всякие слухи, но все равно сами мне предлагали: бери все, что надо. Бери! Как он? Как они все? Они будут жить? Жить... (Молчит). Встретила тогда много хороших людей, я не всех запомнила... Мир сузился до одной точки. Он... Только он... Помню пожилую санитарку, которая меня учила: «Есть болезни, которые не излечиваются. Надо сидеть и гладить руки».
Рано утром еду на базар, оттуда — к своим знакомым, варю бульон. Все протереть, покрошить, разлить по порциям. Кто-то попросил: «Привези яблочко». С шестью пол-литровыми баночками... Всегда на шестерых! В больницу... Сижу до вечера. А вечером — опять в другой конец города. На сколько бы меня так хватило? Но через три дня сказали, что можно жить в гостинице для медработников, на территории самой больницы. Боже, какое счастье!
— Но там нет кухни. Как я буду им готовить?
— Вам уже не надо готовить. Их желудки перестают воспринимать еду.
Он стал меняться — каждый день я уже встречала другого человека... Ожоги выходили наверх... Во рту, на языке и щеках, сначала появились маленькие язвочки, потом они разрослись. Пластами отходила слизистая, пленочками белыми. Цвет лица... Цвет тела... Синий... Красный... Серо-бурый... А оно такое все мое, такое любимое! Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Спасало то, что все это происходило мгновенно, некогда было думать, некогда было плакать.
Я любила его! Я еще не знала, как я его любила! Мы только поженились, еще не нарадовались друг другу... Идем по улице. Схватит меня на руки и закружится. И целует, целует. Люди идут мимо, и все улыбаются.
Клиника острой лучевой болезни — 14 дней... За 14 дней человек умирает...
В гостинице в первый же день дозиметристы меня замеряли. Одежда, сумка, кошелек, туфли, — все «горело». И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат 56 размера на мой 44-й, а тапочки 43 вместо 37. Одежду, сказали, может, привезем, а может, и нет, навряд ли она поддастся «чистке». В таком виде я и появилась перед ним. Испугался: «Батюшки, что с тобой?». А я все-таки ухитрялась варить бульон. Ставила кипятильник в стеклянную банку... Туда бросала кусочки курицы... Маленькие-маленькие... Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку, кажется, уборщица или дежурная гостиницы. Кто-то — досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара, кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно, он не мог даже пить... проглотить сырое яйцо... А мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое! Будто это могло помочь. Добежала до почты: «Девочки, — прошу, — мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж». Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж, моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мои вещи. Деньги.
9 мая... Он всегда мне говорил: «Ты не представляешь, какая красивая Москва! Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела». Сижу возле него в палате, открыл глаза:
— Сейчас день или вечер?
— Девять вечера.
— Открывай окно! Начинается салют!
Я открыла окно. Восьмой этаж, весь город перед нами! Букет огня взметнулся в небо.
— Вот это да!
— Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить цветы...
Оглянулась — достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги — и она купила.
Подбежала и целую:
— Мой единственный! Любовь моя!
Разворчался:
— Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать! Нельзя целовать!
Мне запрещали его обнимать. Гладить... Но я... Я поднимала и усаживала его на кровать. Перестилала постель, ставила градусник, приносила и уносила судно... Вытирала... Всю ночь — рядом. Сторожила каждое его движение. Вздох.
Хорошо, что не в палате, а в коридоре... У меня закружилась голова, я ухватилась за подоконник... Мимо шел врач, он взял меня за руку. И неожиданно:
— Вы беременная?
— Нет-нет! — Я так испугалась, что нас кто-нибудь услышал.
— Не обманывайте, — вздохнул он.
Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить.
Назавтра меня вызывают к заведующей:
— Почему вы меня обманули? — строго спросила она.
— Не было выхода. Скажи я правду — отправили бы домой. Святая ложь!
— Что вы натворили!
— Но я с ним...
— Миленькая ты моя! Миленькая моя...
Всю жизнь буду благодарна Ангелине Васильевне Гуськовой. Всю жизнь!
Другие жены тоже приезжали, но их уже не пустили. Были со мной их мамы: мамам разрешили... Мама Володи Правика все время просила Бога: «Возьми лучше меня».
Американский профессор, доктор Гейл... Это он делал операцию по пересадке костного мозга... Утешал меня: надежда есть, маленькая, но есть. Такой могучий организм, такой сильный парень! Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, брат из Ленинграда — он там служил. Младшая Наташа, ей было 14, очень плакала и боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех... (Замолкает). Я уже могу об этом рассказывать... Раньше не могла. Я 10 лет молчала. 10 лет... (Замолкает).
Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался: «Я лучше умру. Не трогайте ее, она маленькая». Старшей сестре Люде было 28 лет, она сама медсестра, понимала, на что идет. «Только бы он жил», — говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах... Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа... Когда кончили, хуже было Люде, чем ему, у нее на груди 18 проколов, тяжело выходила из наркоза. И сейчас болеет, на инвалидности... Была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла... А я тогда металась из одной палаты в другую, от него — к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере, за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там такие специальные приспособления есть, чтобы, не заходя под пленку, делать уколы, ставить катетер... Все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться... Тихонько пленку отодвину и проберусь к нему... В конце концов возле его кровати мне поставили маленький стульчик... Ему стало так плохо, что я уже не могла отойти, ни на минуту. Звал меня постоянно: «Люся, где ты? Люсенька!».
Звал и звал... Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно. Протирали полы, меняли постельное белье... Полностью обслуживали. Откуда там появились солдаты? Не спрашивала... Только он... Он... А каждый день слышу: умер, умер... Умер Тищура. Умер Титенок. Умер... Как молотком по темечку...
Стул 25-30 раз в сутки. С кровью и слизью. Кожа начала трескаться на руках, ногах... Все тело покрылось волдырями. Когда он ворочал головой, на подушке оставались клочья волос... А все такое родное. Любимое... Я пыталась шутить: «Даже удобно. Не надо носить расческу». Скоро их всех постригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все 24 часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко... Минутку, и то жалко... (Закрывает лицо руками и молчит). Приехал мой брат и испугался: «Я тебя туда не пущу!». А отец говорит ему: «Такую разве не пустишь? Да она в окно влезет! По пожарной лестнице!».
Отлучилась... Возвращаюсь — на столике у него апельсин... Большой, не желтый, а розовый. Улыбается: «Меня угостили. Возьми себе». А медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз он возле него какое-то время полежал, его не то что есть, к нему прикасаться страшно. «Ну съешь, — просит. — Ты же любишь апельсины». Я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время давали уколы, чтобы он спал. Наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе... А я? Я готова сделать все, чтобы он только не думал о смерти... И о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь... Обрывок какого-то разговора... Кто-то меня увещевает: «Вы не должны забывать, что перед вами уже не муж, не любимый человек, а радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийца. Возьмите себя в руки». А я как умалишенная: «Я его люблю! Я его люблю!». Он спал, я шептала: «Я тебя люблю!». Шла по больничному двору: «Я тебя люблю!». Несла судно: «Я тебя люблю!».
Вспоминала, как мы с ним раньше жили... В нашем общежитии... Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка: во сне держать меня за руку. Всю ночь.
А в больнице я возьму его за руку и не отпускаю...
Ночь. Тишина. Мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит:
— Так хочу увидеть нашего ребенка. Какой он?
— А как мы его назовем?
— Ну, это ты уже сама придумаешь...
— Почему я сама, если нас двое?
— Тогда, если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка — Наташка.
— Как это Вася? У меня уже есть один Вася. Ты! Мне другого не надо.
Я еще не знала, как я его любила! Он... Только он... Как слепая! Даже не чувствовала толчков под сердцем.. Хотя была уже на шестом месяце... Я думала, что она внутри меня, моя маленькая, и она защищена. Моя маленькая...
О том, что ночую у него в барокамере, никто из врачей не знал. Не догадывался. Пускали меня медсестры. Первое время тоже уговаривали: «Ты — молодая. Что ты надумала? Это уже не человек, а реактор. Сгорите вместе». Я, как собачка, бегала за ними... Стояла часами под дверью. Просила-умоляла. И тогда они: «Черт с тобой! Ты — ненормальная». Утром перед восьмью часами, когда начинался врачебный обход, показывают через пленку: «Беги!». На час сбегаю в гостиницу. А с девяти утра до девяти вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли, настолько я уставала. Моя душа была крепче тела. Моя любовь...
Пока я с ним... Этого не делали... Но когда уходила, его фотографировали... Одежды никакой. Голый. Одна легкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови. Поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки кожи, прилипают. Прошу: «Миленький! Помоги мне! Обопрись на руку, на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила, не оставила ни одного шва, ни одной складочки». Любой шовчик — это уже рана на нем. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить. Никто из медсестер не решался подойти, прикоснуться, если что-нибудь нужно, звали меня. И они... Они фотографировали... Говорили, для науки. А я бы их всех вытолкнула оттуда! Кричала бы и била! Как они могут! Если бы я могла их туда не пустить... Если бы...
Выйду из палаты в коридор... И иду на стенку, на диван, потому что я ничего не вижу. Остановлю дежурную медсестру: «Он умирает». Она мне отвечает: «А что ты хочешь? Он получил 1600 рентген, а смертельная доза 400». Ей тоже жалко, но по-другому. А оно все мое... Все любимое.
Когда они все умерли, в больнице сделали ремонт... Стены скоблили, взорвали паркет и вынесли... Столярку.
Дальше — последнее... Помню обрывками. Все уплывает...
Ночь сижу возле него на стульчике... В восемь утра: «Васенька, я пойду. Я немножко отдохну». Откроет и закроет глаза — отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так все болело, как уже стучит санитарка: «Иди! Беги к нему! Зовет беспощадно!». А в то утро Таня Кибенок так меня просила, звала: «Поедем со мной на кладбище. Я без тебя не смогу». В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. С Витей они были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они, наши мужья, там красивые! Веселые! Последний день нашей той жизни... Дочернобыльской... Такие мы счастливые!
Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре: «Как он там?». — «15 минут назад умер». Как? Я всю ночь была у него. Только на три часа отлучилась! Встала у окна и кричала: «Почему?!? За что?!». Смотрела на небо и кричала... На всю гостиницу... Ко мне боялись подойти... Опомнилась: напоследок его увижу! Увижу! Скатилась с лестницы... Он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его: «Люся! Люсенька!». — «Только отошла. Сейчас прибежит», — успокоила медсестра. Вздохнул и затих.
Уже я от него не оторвалась... Шла с ним до гроба... Хотя запомнила не сам гроб, а большой полиэтиленовый пакет... Этот пакет... В морге спросили: «Хотите, мы покажем вам, во что его оденем». Хочу! Одели в парадную форму, фуражку на грудь положили. Обувь не подобрали, потому что ноги распухли. Бомбы вместо ног. Парадную форму тоже разрезали, натянуть не могли, не было уже целого тела. Все — кровавая рана. В больнице последние два дня... Подниму его руку, а кость шатается, болтается кость, телесная ткань от нее отошла. Кусочки легкого, кусочки печени шли через рот... Захлебывался своими внутренностями... Обкручу руку бинтом и засуну ему в рот, все это из него выгребаю... Это нельзя рассказать! Это нельзя написать! И даже пережить... Это все такое родное... Такое... Ни один размер обуви невозможно было натянуть... Положили в гроб босого...
На моих глазах... В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб... А гроб еще одним мешком обвязали... Целлофан прозрачный, но толстый, как клеенка. И уже все это поместили в цинковый гроб, еле втиснули. Одна фуражка наверху осталась.
Съехались все... Его родители, мои родители... Купили в Москве черные платки... Нас принимала чрезвычайная комиссия. Всем говорили одно и то же, что отдать вам тела ваших мужей, ваших сыновей мы не можем, они очень радиоактивные и будут похоронены на московском кладбище особым способом. В запаянных цинковых гробах, под бетонными плитками. И вы должны этот документ подписать. Нужно ваше согласие. Если кто-то возмущался, хотел увезти гроб на родину, его убеждали, что они, мол, герои и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди... Принадлежат государству.
Сели в катафалк... Родственники и какие-то военные люди. Полковник с рацией... По рации передают: «Ждите наших приказаний! Ждите!». Два или три часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся... По рации: «На кладбище въезд не разрешаем. Кладбище атакуют иностранные корреспонденты. Еще подождите». Родители молчат... Платок у мамы черный... Я чувствую, что теряю сознание. Со мной истерика: «Почему моего мужа надо прятать? Он — кто? Убийца? Преступник? Уголовник? Кого мы хороним?». Мама: «Тихо, тихо, дочечка». Гладит меня по голове, берет за руку. Полковник передает: «Разрешите следовать на кладбище. С женой истерика». На кладбище нас окружили солдаты. Шли под конвоем. И гроб несли под конвоем. Никого не пустили попрощаться... Одни родственники... Засыпали моментально. «Быстро! Быстро!» — командовал офицер. Даже не дали гроб обнять.
И — сразу в автобусы...
Мгновенно купили и принесли обратные билеты... На следующий день... Все время с нами был какой-то человек в штатском, с военной выправкой, не дал даже выйти из номера и купить еду в дорогу. Не дай Бог, чтобы мы с кем-нибудь заговорили, особенно я. Как будто я тогда могла говорить, я уже даже плакать не могла. Дежурная, когда мы уходили, пересчитала все полотенца, все простыни... Тут же их складывала в полиэтиленовый мешок. Наверное, сожгли... За гостиницу мы сами заплатили. За 14 суток...
Клиника лучевой болезни — 14 суток... За 14 суток человек умирает...
Дома я уснула. Зашла в дом и повалилась на кровать. Я спала трое суток. Меня не могли поднять... Приехала «скорая помощь». «Нет, — сказал врач, — она не умерла. Она проснется. Это такой страшный сон».
Мне было 23 года...
Я помню сон... Приходит ко мне моя умершая бабушка, в той одежде, в которой мы ее похоронили. И наряжает елку. «Бабушка, почему у нас елка? Ведь сейчас лето?». — «Так надо. Скоро твой Васенька ко мне придет». А он вырос среди леса. Я помню... Второй сон... Вася приходит в белом и зовет Наташу. Нашу девочку, которую я еще не родила. Уже она большая, и я удивляюсь: когда она так подросла? Он подбрасывает ее под потолок, и они смеются... А я смотрю на них и думаю, что счастье — это так просто. Так просто! А потом мне приснилось... Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идем... Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак оттуда. Сверху. (Затихает надолго).
Через два месяца я приехала в Москву. С вокзала — на кладбище. К нему! И там на кладбище у меня начались схватки. Только я с ним заговорила... Вызвали «скорую». Я дала адрес. Рожала я там же... У той же Ангелины Васильевны Гуськовой... Она меня еще тогда предупредила: «Рожать приезжай к нам». А куда я такая еще поеду? Родила я на две недели раньше срока...
Мне показали... Девочка... «Наташенька, — позвала я. — Папа назвал тебя Наташенькой». На вид здоровый ребенок. Ручки, ножки... А у нее был цирроз печени... В печени — 28 рентген... Врожденный порок сердца...
Через четыре часа сказали, что девочка умерла. И опять... мы ее вам не отдадим! Как это не отдадите?! Это я ее вам не отдам! Вы хотите ее забрать для науки, а я ненавижу вашу науку! Ненавижу! Она забрала у меня сначала его, а теперь еще ждет... Не отдам! Я похороню ее сама. Рядом с ним... (Переходит на шепот).
Все не те слова вам говорю... Не такие... Нельзя мне кричать после инсульта. И плакать нельзя. Но я хочу... Хочу, чтобы знали... Еще никому не признавалась... Когда я не отдала им мою маленькую девочку. Нашу девочку... Тогда они принесли мне деревянную коробочку: «Она — там». Я посмотрела: ее запеленали. Она лежала в пеленочках. И тогда я заплакала: «Положите ее у его ног. Скажите, что это наша Наташенька».
Там, на могилке, не написано: Наташа Игнатенко... Там только его имя... Она же была еще без имени, без ничего... Только душа... Душу я там и похоронила...
Я прихожу к ним всегда с двумя букетами: один — ему, второй — на уголок кладу ей. Ползаю у могилы на коленках... Всегда на коленках... (Бессвязно). Я ее убила... Я... она... спасла... Моя девочка меня спасла, она приняла весь радиоудар на себя, стала как бы приемником этого удара. Такая маленькая. Крохотулечка. (Задыхаясь). Она меня уберегла. Но я любила их двоих... Разве... Разве можно убить любовью? Такой любовью! Почему это рядом? Любовь и смерть. Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Кто подскажет? Ползаю у могилы на коленках... (Надолго затихает).
...В Киеве мне дали квартиру. В большом доме, где теперь живут все, кто уехал с атомной станции. Все знакомые. Квартира большая, двухкомнатная, о какой мы с Васей мечтали. А я сходила в ней с ума! В каждом углу, куда ни гляну, — везде он. Его глаза... Начала ремонт, лишь бы не сидеть, лишь бы забыться. И так два года... Снится мне сон... Мы идем с ним, а он идет босиком. «Почему ты всегда необутый?». — «Да потому, что у меня ничего нет». Пошла в церковь... Батюшка меня научил: «Надо купить тапочки большого размера и положить кому-нибудь в гроб. Написать записку — что это ему». Я так и поступила... Приехала в Москву и сразу — в церковь. В Москве я к нему ближе... Он там лежит, на Митинском кладбище...
Рассказываю служителю, что так и так, мне надо тапочки передать. Спрашивает: «А ведомо тебе, как это делать надо?». Еще раз объяснил... Как раз внесли отпевать дедушку старого. Я подхожу к гробу, поднимаю накидочку и кладу туда тапочки. «А записку ты написала?». — «Да, написала, но не указала, на каком кладбище он лежит». — «Там они все в одном мире. Найдут его».
У меня никакого желания к жизни не было. Ночью стою у окна, смотрю на небо: «Васенька, что мне делать? Я не хочу без тебя жить». Днем иду мимо детского садика, встану и стою... Глядела бы и глядела на детей... Я сходила с ума! И стала ночью просить: «Васенька, я рожу ребенка. Я уже боюсь быть одна. Не выдержу дальше. Васенька!». А в другой раз так попрошу: «Васенька, мне не надо мужчины. Лучше тебя для меня нет. Я хочу ребеночка».
Мне было 25 лет...
Я нашла мужчину... Все ему рассказала.... Всю правду: у меня одна любовь, на всю жизнь. Я все ему открыла... Мы встречались, но я никогда его в дом к себе не звала, в дом не могла. Там — Вася...
Работала я кондитером. Леплю торт, а слезы катятся. Я не плачу, а слезы катятся. Единственное, о чем девочек просила: «Не жалейте меня. Будете жалеть, я уйду». Не надо меня жалеть... Я когда-то была счастливая...
Принесли мне Васин орден. Красного цвета... Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся...
Родила мальчика. Андрей... Андрейка... Подруги останавливали: «Тебе нельзя рожать», и врачи пугали: «Ваш организм не выдержит». Потом... Потом они сказали, что он будет без ручки... Без правой ручки... Аппарат показывал... «Ну и что? — думала я. — Научу писать его левой ручкой». А родился нормальный... красивый мальчик... Учится уже в школе, учится на одни пятерки. Теперь у меня есть кто-то, кем я дышу и живу. Свет в моей жизни. Он прекрасно все понимает: «Мамочка, если я уеду к бабушке, на два дня, ты дышать сможешь?». Не смогу! Боюсь на день с ним разлучиться. Мы шли по улице... И я, чувствую, падаю... Тогда меня разбил первый инсульт... Там, на улице... «Мамочка, тебе водички дать?». — «Нет, ты стой возле меня. Никуда не уходи». И хватанула его за руку. Дальше не помню... Открыла глаза в больнице... Я так хватанула Андрейку за руку, что врачи еле разжали мои пальцы. У него рука долго была синяя. Теперь выходим из дома: «Мамочка, только не хватай меня за руку. Я никуда от тебя не уйду». Он тоже болеет: две недели в школе, две — дома с врачом. Вот так и живем. Боимся друг за друга. А в каждом углу Вася... Его фотографии... Ночью с ним говорю и говорю... Бывает, меня во сне попросит: «Покажи нашего ребеночка». Мы с Андрейкой приходим... А он приводит за руку дочку. Всегда с дочкой. Играет только с ней...
Так я и живу... Живу одновременно в реальном и нереальном мире. Не знаю, где мне лучше... (Встает. Подходит к окну). Нас тут много. Целая улица, ее так и называют — чернобыльская. Всю свою жизнь эти люди на станции проработали. Многие до сих пор ездят туда на вахту, теперь станцию обслуживают вахтовым методом. Никто там уже не живет и жить никогда не будет. У них у всех тяжелые заболевания, инвалидности, но работу свою не бросают, боятся даже подумать об этом. У них нет жизни без реактора, реактор — их жизнь. Где и кому они сегодня нужны в другом месте? Часто умирают. Умирают мгновенно. Они умирают на ходу — шел и упал, уснул и не проснулся. Нес медсестре цветы, и остановилось сердце. Стоял на автобусной остановке... Они умирают, но их никто по-настоящему не расспросил. О том, что мы пережили... Что видели... О смерти люди не хотят слушать. О страшном...
Но я вам рассказала о любви... Как я любила...
Людмила Игнатенко, жена погибшего пожарника Василия Игнатенко».
«Афганистан и Чернобыль — два события, которые Советский Союз и похоронили»
— Вы об Афганистане упомянули, после которого книгу «Цинковые мальчики» написали... Она на основе рассказов матерей, потерявших своих сыновей, зачастую единственных, создана — вы тогда над цинизмом и несправедливостью советской системы, которая этих парней в чужом краю неизвестно за что погибать отправляла, задумывались?
— Во-первых, в книге рассказы не только матерей и жен, но и самих ребят — она на столкновении мужского и женского взглядов сделана, и в этом ее главная пружина, сюжет внутренний, а во-вторых, я думаю, что Афганистан и Чернобыль — два события, которые Советский Союз и похоронили...
Что касается Афганистана, он меня опять-таки как повод поговорить о том, какие плохие Советы и что они делали, на смерть единственных детей посылая, не интересовал, то есть это там было, но не главным. Книга моя о другом — о том, как людей, в общем-то, убивать заставляют, как вроде бы героическая культура Второй мировой войны, когда наши фронтовики родину защищали, в свою полную противоположность превращается, то есть солдаты на чужую землю приходят и какой-то социализм туда приносят, который у них дома уже последние дни доживает, и они, в общем-то, ничего не понимают.
У них, как у щенков, только одно желание остается — не погибнуть, к маме вернуться, и вместе с тем — острота человеческих ощущений, радость от нового оружия: человек ведь от окружения очень зависит, да? Когда он говорит: меня, мол, обычного мальчика, в военную форму одели, автомат дали, я на броню залез и уже хозяин положения, себя даже не узнаю (от того интеллигентного мальчика ничего не осталось) — здесь целый ряд свидетельств того, что мы, особенно мужчины, пленники культуры войны, и как из этого круга выбраться, сказать трудно.

Из книги Светланы Алексиевич «Цинковые мальчики».
«— Я иду одна... Теперь мне долго предстоит идти одной...
Он убил человека... Мой сын... Кухонным топориком, я им мясо разделывала. Вернулся с войны и тут убил... Принес и положил утром топорик назад, в шкафчик, где у меня посуда хранится. По-моему, в этот же день я ему отбивные приготовила... Через какое-то время по телевидению объявили и в вечерней газете написали, что рыбаки выловили в городском озере труп... По кускам... Звонит мне подруга:
— Читала? Профессиональное убийство... Афганский почерк...
Сын был дома, лежал на диване, книжку читал. Я еще ничего не знала, ни о чем не догадывалась, но почему-то после этих слов посмотрела на него... Материнское сердце...
Вы не слышите собачий лай? Нет? А я слышу, как только начинаю об этом рассказывать, слышу собачий лай. Как собаки бегут... Там, в тюрьме, где он сейчас сидит, большие черные овчарки... И люди все в черном, только в черном... Вернусь в Минск, иду по улице, мимо хлебного магазина, детского садика, несу батон и молоко и слышу этот собачий лай. Оглушающий лай. Я от него слепну... Один раз чуть под машину не попала...
Я готова ходить к могильному холмику своего сына... Готова рядом там с ним лежать... Но я не знаю... Я не знаю, как с этим мне жить... Мне иногда на кухню страшно заходить, видеть тот шкафчик, где топорик лежал... Вы не слышите? Ничего не слышите... Нет?!
Сейчас я не знаю, какой он, мой сын. Какого я его получу через 15 лет? Ему 15 лет строгого режима дали... Как я его воспитывала? Он увлекался бальными танцами... Мы с ним в Ленинград в Эрмитаж ездили. Книжки вместе читали... (Плачет). Это Афганистан отнял у меня сына...
...Получили из Ташкента телеграмму: встречайте, самолет такой-то... Я выскочила на балкон, хотела изо всех сил кричать: «Живой! Мой сын живой вернулся из Афганистана! Эта ужасная война для меня кончилась!» — и потеряла сознание. В аэропорт мы, конечно, опоздали, наш рейс давно прибыл, сына нашли в сквере. Он лежал на земле и за траву держался, удивлялся, что она такая зеленая. Не верил, что вернулся... Но радости у него на лице не было...
Вечером к нам пришли соседи, у них маленькая девочка, ей завязали яркий синий бантик. Он посадил ее к себе на колени, прижимает и плачет, слезы текут и текут. Потому что они там убивали. И он... Это я потом поняла.
На границе таможенники «срезали» у него плавки импортные. Американские. Не положено... Так что он приехал без белья. Вез для меня халат, мне в тот год исполнилось 40 лет, халат у него забрали. Вез бабушке платок — тоже забрали. Он приехал только с цветами. С гладиолусами. Но радости у него на лице не было.
Утром встает еще нормальный: «Мамка! Мамка!». К вечеру лицо темнеет, глаза тяжелые... Не опишу вам...
Сначала не пил ни капли... Сидит и в стенку смотрит. Сорвется с дивана, за куртку...
Стану в дверях:
— Ты куда, Валюшка?
Он на меня глянет, как в пространство. Пошел.
Возвращаюсь поздно с работы, завод далеко, вторая смена, звоню в дверь, а он не открывает. Он не узнает мой голос. Это так странно, ну ладно голоса друзей не узнает, но мой! Тем более «Валюшка» — только я его так звала. Он как будто все время ждал кого-то, боялся. Купила ему новую рубашку, стала примерять, смотрю: у него руки в порезах.
— Что это?
— Мелочь, мамка.
Потом уже узнала. После суда... В «учебке» вскрывал себе вены... На показательном учении он был радист, не успел вовремя забросить рацию на дерево, не уложился в положенное время, и сержант заставил его выгрести из туалета 50 ведер и пронести перед строем. Он стал носить и потерял сознание. В госпитале поставили диагноз: легкое нервное потрясение. Тогда же ночью он пытался вскрыть себе вены. Второй раз в Афганистане... Перед тем, как им идти в рейд, проверили: рация не работала. Пропали дефицитные детали, кто-то из своих стащил... Кто? Командир обвинил его в трусости, как будто это он детали спрятал, чтобы не идти вместе со всеми. А они там все друг у друга воровали, машины на запчасти разбирали и несли в дуканы, продавали. Покупали наркотики... Наркотики, сигареты. Еду. Они вечно ходили голодные.
По телевизору шла передача об Эдит Пиаф, мы вместе с ним смотрели.
— Мама, — спросил он меня, — а ты знаешь, что такое наркотики?
— Нет, — сказала я ему неправду, а сама уже следила за ним: не покуривает ли?
Никаких следов. Но там они наркотики употребляли — это я знаю.
— Как там в Афганистане? — спросила однажды.
— Молчи, мамка!
Когда он уходил из дому, я перечитывала его афганские письма, хотела докопаться, понять, что с ним. Ничего особенного в них не находила, писал, что скучает по зеленой траве, просил бабушку сфотографироваться на снегу и прислать ему снимок. Но я же видела, чувствовала, что с ним что-то происходит. Мне вернули другого человека... Это был не мой сын. А я сама отправила его в армию, у него была отсрочка. Я хотела, чтобы он стал мужественным. Убеждала его и себя, что армия сделает его лучше, сильнее. Я отправила его в Афганистан с гитарой, устроила на прощание сладкий стол. Он друзей своих позвал, девочек... Помню, 10 тортов купила.
Один только раз он заговорил об Афганистане. Под вечер... Заходит на кухню, я кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее. Разглядывает. И сам себе говорит:
— Привозят друга с перебитым животом... Он просит, чтобы я его пристрелил... И я его пристрелил...
Пальцы в крови... От кроличьего мяса, оно свежее... Он этими пальцами хватает сигарету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова.
Пошла я к врачам. Верните мне сына! Спасите! Все рассказала... Проверяли они его, смотрели, но, кроме радикулита, ничего не нашли.
Прихожу раз домой: за столом — четверо незнакомых ребят.
— Мамка, они из Афгана. Я на вокзале их нашел. Им ночевать негде.
— Я вам сладкий пирог сейчас испеку. Мигом. — Почему-то обрадовалась я.
Они жили у нас неделю. Не считала, но думаю, ящика три водки выпили. Каждый вечер встречала дома пятерых незнакомых людей. Пятым был мой сын... Я не хотела слушать их разговоры, пугалась. Но в одном же доме... Нечаянно подслушала... Они говорили, что, когда сидели в засаде по две недели, им давали стимуляторы, чтобы были смелее. Но это все в тайне хранится. Каким оружием лучше убивать... С какого расстояния... Потом я это вспомнила, когда все случилось... Я потом стала думать, лихорадочно вспоминать. А до того был только страх. «Ой, — говорила себе, — они все какие-то сумасшедшие. Все ненормальные».
Ночью... Перед тем днем... Когда он убил... Мне был сон, что я жду сына, его нет и нет. И вот его мне приводят... Приводят те четыре «афганца». И бросают на грязный цементный пол. Вы понимаете, в доме цементный пол... У нас на кухне... Пол — как в тюрьме.
К этому времени он уже поступил на подготовительный факультет в радиотехнический институт. Хорошее сочинение написал. Счастливый был, что у него все хорошо. Я даже начала думать, что он успокаивается. Пойдет учиться. Женится. Но наступит вечер... Я боялась вечера... Он сидит и тупо в стенку смотрит. Заснет в кресле... Мне хочется броситься, закрыть его собой и никуда не отпускать. А теперь мне снится сын: он маленький и просит кушать... Он все время голодный. Руки тянет... Всегда во сне вижу его маленьким и униженным. А в жизни?! Раз в два месяца — свидание. Четыре часа разговора через стекло...
В год два свидания, когда я могу его хотя бы покормить. И этот лай собак... Мне снится этот лай собак. Он гонит меня отовсюду.
За мной стал ухаживать один мужчина... Цветы принес... Когда он принес мне цветы, «Отойдите от меня, — стала кричать, — я мать убийцы!». Первое время я боялась кого-нибудь из знакомых встретить, в ванной закроюсь и жду, что стены на меня рухнут. Мне казалось, что на улице все меня узнают, показывают друг другу, шепчут: «Помните, тот жуткий случай... Это ее сын убил. Четвертовал человека. Афганский почерк...».
Я выходила на улицу только ночью, всех ночных птиц изучила. Узнавала по голосам.
Шло следствие... Шло несколько месяцев... Он молчал. Я поехала в Москву в военный госпиталь Бурденко. Нашла там ребят, которые служили в спецназе, как и он. Открылась им...
— Ребята, за что мой сын мог убить человека?
— Значит, было за что.
Я должна была сама убедиться, что он мог это сделать... Убить... Долго их выспрашивала и поняла: мог! Спрашивала о смерти... Нет, не о смерти, а об убийстве. Но этот разговор не вызывал у них особенных чувств, таких чувств, какие любое убийство обычно вызывает у нормального человека, не видевшего кровь. Они говорили о войне как о работе, на которой надо убивать. Потом я встречала парней, которые тоже были в Афганистане, и когда случилось землетрясение в Армении, поехали туда со спасательными отрядами. Меня интересовало, я уже на этом застолбилась: было ли им страшно? Что они испытывали при виде смерти? Нет, им ничего не было страшно, у них даже чувство жалости притуплено. Разорванные... расплющенные... черепа, кости...
Похороненные под землей целые школы... Классы... Как дети сидели на уроке, так и ушли под землю. А они вспоминали и рассказывали о другом: какие богатые винные склады откапывали, какой коньяк, какое вино пили. Шутили: пусть бы еще где-нибудь тряхануло. Но чтобы в теплом месте, где виноград растет и делают хорошее вино... Они что — здоровые? У них нормальная психика?
«Я его мертвого ненавижу». Это он мне недавно написал. Через пять лет... Что там произошло? Молчит. Знаю только, что тот парень, звали его Юра, хвастался, что заработал в Афганистане много чеков. А после выяснилось, что служил он в Эфиопии, прапорщик. Про Афганистан врал...
На суде только адвокат сказала, что мы судим больного. На скамье подсудимых — не преступник, а больной. Его надо лечить. Но тогда правды об Афганистане еще не было. Их всех называли героями. Воинами-интернационалистами. А мой сын был убийца... Потому что он сделал здесь то, что они делали там. За что им там медали и ордена давали... Почему же его одного судили? Не судили тех, кто его туда послал? Научил убивать! Я его этому не учила... (Срывается и кричит).
Он убил человека моим кухонным топориком... А утром принес и положил его в шкафчик. Как обыкновенную ложку или вилку...
Я завидую матери, у которой сын вернулся без обеих ног... Пусть он ее ненавидит, когда напьется. Весь мир ненавидит... Пусть бросается на нее, как зверь. Она покупает ему проституток, чтобы он не сошел с ума...
Сама один раз ему любовницей стала, потому что он лез на балкон, хотел выброситься с 10 этажа. Я на все согласна... Я всем матерям завидую, даже тем, у кого сыновья в могилах лежат. Я сидела бы возле холмика и была счастлива. Носила бы цветы.
Вы слышите лай собак? Они за мной бегут. Я их слышу...
Мать».

(Продолжение в следующем номере)

 Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Академик Александров говорил, что чернобыльский реактор, как самовар, безопасен — можно хоть на Красной площади ставить»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Академик Александров говорил, что чернобыльский реактор, как самовар, безопасен — можно хоть на Красной площади ставить» Надежда САВЧЕНКО: «Убивала ли я людей? Конечно же, убивала — это работа, и надо научиться отключать себя еще до того, как ее выполнишь. Дрожали ли при этом руки? Мои руки никогда не дрожат».
Надежда САВЧЕНКО: «Убивала ли я людей? Конечно же, убивала — это работа, и надо научиться отключать себя еще до того, как ее выполнишь. Дрожали ли при этом руки? Мои руки никогда не дрожат». Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Я из тех богатых, кого Яценюк, Гройсман и Коболев повышением цены на газ наказать собрались, а в результате десятки миллионов бедных накажут»
Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Я из тех богатых, кого Яценюк, Гройсман и Коболев повышением цены на газ наказать собрались, а в результате десятки миллионов бедных накажут» Экс-советник Путина Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Как долго продлится режим? До физического конца Путина»
Экс-советник Путина Андрей ИЛЛАРИОНОВ: «Как долго продлится режим? До физического конца Путина»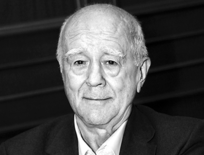 Без права на сомнение
Без права на сомнение Синдром Парасюка: молодец против овец.
Синдром Парасюка: молодец против овец. Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги