Актер Владимир КОНКИН: «Я не батюшка и исповедовать Высоцкого не уполномочен, тем более на белом свете его нет. Все равно рано или поздно мы там соберемся, может, Господь нас объединит, и хотя бы тогда наши души отношения выяснят и мы поймем, что оба — одного поля ягоды»


(Продолжение. Начало в № 6)
«Театр — это специфическое заведение, нечто между сумасшедшим домом и домом терпимости»
— Уже будучи заслуженным артистом Украинской ССР, вы год в звездном Театре имени Моссовета проработали, где тогда корифеи служили — Любовь Орлова, Фаина Раневская, Вера Марецкая, Ростислав Плятт... Как они вас приняли?
— Начнем с того, что любой театр — это специфическое заведение, нечто между сумасшедшим домом и домом терпимости, между Сциллой и Харибдой, и театр Моссовета — не исключение. Надо сказать, что Завадский меня в роли Корчагина увидел и сразу же влюбился...
— В глаза?

— Да-да, в глаза — Юрий Александрович объявил, что вот таким должен Раскольников быть, что он новую редакцию «Петербургских сновидений» делать намерен. Ну какой артист откажется, если мэтр ему роль Раскольникова предлагает — мало того, говорит, что через две недели у тебя квартира будет...
— ...в Москве...
— ...а у меня-то уже детей двое. О чем речь? Помню, Олег Павлович Табаков меня встретил... Мы с Мащенко перед тем, как в Чехословакию поехать, — первая наша загранкомандировка, кстати, была — в «Современнике» спектакль смотрели, что-то о Тольятти...
— Табаков же тогда не только актером, но и директором «Современника» был...
— Да, и Олег Павлыч — он же саратовский — сказал: «Володя, мы тебя ждем». — «Дело в том, — я ответил, — что Юрий Александрович Завадский роль Раскольникова мне предложил, репетировать буду, и квартиру обещал, потому что у меня же дети». — «Обманет!». Как в воду глядел...
Завадский уже немощен был, в театре влияние люди имели, которые, наверное, не очень-то ко мне расположены были, и потом, любое явление, особенно молодое и вдруг в этот круг небожителей вскочившее (а я сразу же туда влетел!), настороженность вызывало. Другое дело, что я деликатный мальчик и стоять по стойке смирно умел.
— Субординацию понимали...
— Ну а как можно было нога за ногу сидеть, в кресле развалившись, когда Плятт входит? У нас репетиционный зал на пятом этаже, и вот мы как-то с Игорешкой Старыгиным, Олегом Щетининым, Юрой Кузьменковым там в курилке сидим и слышим, как на первом этаже дверца лифта хлопает, а по звуку мы уже знали, Раневская это, Любовь Петровна Орлова или Марецкая.

— Ну легенды одни!
— Мы тут же — вот кто этому нас учил? — окурки тушили и себя осматривали: в порядке ли костюм, нет ли чего лишнего, хотя они, может, не на наш этаж поднимались.
«Любовь Орлова вся в морщинах была, притом неестественных — толстый слой грима этого ужаса не скрывал»
— Мэтры к вам хорошо относились?
— Ко мне — да, поэтому, может, сложности и возникали. Должен вам объяснить, что я у родителей в достаточно позднем возрасте появился: маме почти 40, папе 42, то есть, когда мне семь исполнилось, им уже под 50, и все их друзья тогдашние очень взрослыми людьми были. Из-за стола меня не изгоняли, я к взрослой компании привык, а вот со своими одногодками непросто приходилось: говорить с ними мне не о чем было. Я о Рубенсе рассказываю и чем он от Мане отличается, а меня не понимают, мало того, уже и побить хотят: мол, нечего умничать, правда, когда про Муму толковать начинал, это им еще понятно было — тогда... Сейчас-то молодежь не знает, что «Муму» от «Каштанки» отличается тем, что она — не «Белый пудель» Куприна, но это мальчики и девочки из неблагополучных семей были, малочисленные как будто. Понимаете, тут очень много всякого намешано, поэтому я сразу был этими очень взрослыми Гертрудами...

— ...Героями Социалистического Труда...
— ...привечен — со всеми их орденами и медалями. Гертруда — это словечко Фаина Георгиевна Раневская по поводу Завадского придумала (голосом Раневской: «Где наша Гертруда?»), а однажды мне довелось фразу услышать, которую лишь через много лет публично произнести осмелился (потом-то она такой растиражированной стала, как будто ее слышали все).
Я только в театр поступил, у меня в «Романсе о влюбленных» съемки, внизу машина стоит, я из театра выходил, а Фаина Георгиевна заходила. Там приступочка, и, естественно, я ее под локоток, а она: «Какой молодой. Как хорошо, что я «Корчагина» не смотрела», — и к доске распределения подходит. Там что-то вывешено, а по отношению к ней какая-то обструкция назревала, потому что она, вы сами знаете, рыба-пила была (я так ее называл), но ко мне хорошо относилась — по-своему, но хорошо, и вот кучка актеров моложе ее стоит и делают вид, как будто Раневскую не замечают. Она: «Здравствуйте!», а те беседу свою продолжают, ну, некрасиво просто. Кто-то подошел, Фаина Георгиевна к нему: «А...» — но человек развернулся и в противоположную сторону пошел. Она: «А? Никого нет? Можно и перднуть» — фраза, которую забыть невозможно... Таким было мое с ней знакомство: извините, господа, но это Фаина Георгиевна Раневская, это классика — лично я не осмелился бы так сказать никогда.
Марецкая — она небольшого роста была — меня снизу вверх рассматривала и делала вид, что слепенькая и глухенькая. Все ближе и ближе ко мне: «Володя...». — «Да!». Она (игриво): «Так вот ты какой...» — прямо впритык разглядывала (до сих пор от ее взгляда я трепещу) и так нежно, по-отечески ручонку клала...
— Да, слухи ходили...
— Ну, она красавицей и умной женщиной была: им с Любовью Петровной Орловой равных в свое время не было — что говорить.
— Орлова и в возрасте была красива?
— Нет, уже нет — все эти ее операции... Девушки, милые мои, чтобы мы вас любили всегда, как моя мама, как мои прабабушки, живите — они никогда подтяжек не делали. У Любови Петровны все это вылезло, и у меня страшные фотографии есть. У нас спектакль «Шторм» шел, где вся труппа театра была занята.
— Билль-Белоцерковский, да?

— Совершенно верно. Я там комсомольцем Филипповым был, которого много лет Александр Леньков играл, а меня на эту роль — мою первую в Моссовете — ввели, и вот в начале все на сцене сидят, Завадский — Герой Соцтруда! — в черном костюме выходит и говорит, что театр этот спектакль к юбилею революции сделал. Потом в этих же костюмах (если дамы — в накидках) все играть начинали, так вот, Любовь Петровна вся в морщинах была, притом неестественных. Я видел, что она очень ухоженна, но это уже даже не кракелюры возраста: толстый слой грима этого ужаса не скрывал, ощущение, как от графики Гойи, — помните, его «Капричос»?
— Кошмар!
— Эти жесткие линии и какой-то глаз такой — казалось, внутри лампочки горят, поэтому подтяжек делать не надо, женской красоте они только вредят. Эти вот дамы меня привечали, среднее поколение — нет, а молодежь более чем настороженно встретила...
— ...еще бы...
— ...потому что на роль Раскольникова претендент — сами понимаете, хотя повода им я не давал, демократичен был. После репетиций и спектакля гонца, естественно, посылали — тем более ВТО напротив, и у меня как-то всегда в отличие от моих коллег деньги водились — так уж случилось: я даже не знал, когда в театре зарплату-то платят.
Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Когда после премьеры «Как закалялась сталь» Юрий Завадский в труппу Театра имени Моссовета позвал, в Харьков трудовую книжку забирать приехал, и местное отделение общества «Знание» попросило меня перед студентами выступить. Был ошарашен: за это баснословную по тем временам сумму — 100 рублей — предложили. Оказывается, на мой творческий вечер билеты продавали. Зал был полон, восторженные глаза девчонок до сих пор в сердце сияют.
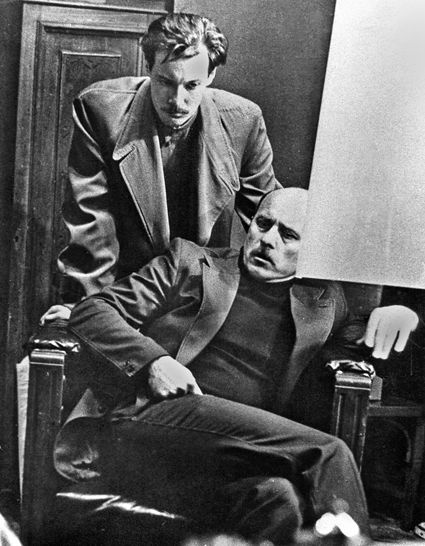
Рассказал им о себе, о съемках, на вопросы ответил и закончил словами: «Спасибо за внимание — мне пора, а то на поезд в Москву опоздаю». Девчонки на сцену с визгами как ломанулись! В кулисах пожарная лестница висела, я к ней бросился, стал вверх, словно обезьяна, карабкаться, думал — сбегу, но не тут-то было. Поклонницы за джинсы ухватили, повисли и буквально штаны с меня стянули. Спасли устроители мероприятия, призвавшие на помощь несколько мужчин поздоровее, — меня отбили и сопроводили на вокзал, посадили в вагон. С тех пор, когда со зрителями встречался, всегда условие ставил: охрана нужна».
«Я маменькин сынок, был обласкан. Мой старший брат от полиомиелита 17-летним умер, родители, зная, что не будет у них больше ни мальчика, ни девочки, все свои заботы на мне сосредоточили, и у меня с пяти лет после скарлатины порок сердца: вот меня и вылизывали...»
— Вы 11(!) театров сменили...
— ...да, да, да...
— ...и я даже знаю, что в Театре имени Ермоловой Владимира Ильича Ленина играли...
— Это мой дебют был в Ермоловском.
— В конце концов, думаю, вы поняли, что театр — искусство сиюминутное, а кино — заявка на вечность...
— Нет, вы знаете я театральный актер, и от этого не отрекаюсь и не отрекался — даже когда точку на 11-м своем театре поставил. Это был театр «Содружество актеров Таганки» Коли Губенко, я у него Захара Бардина во «Врагах» по Горькому сыграл, и очень многим эта моя работа нравилась, но опять же... Ну не мой театр! Я не капризен, — или мне так кажется? — но больше пяти лет в одном коллективе работать не мог — это значит, ты уже в другие игры играешь, индивидуальность твоя несколько стирается, даже если она якобы есть. Представьте: она или он идет (а уже все на нервах): «Откройте дверь. Почему вы не проветрили?». Он, дескать, не любит, когда керосином пахнет. Вокруг недоумение: «От кого пахнет? Сейчас и керосина-то нет!». — «Ну, клопами». — «Да и клопов у нас нет». — «Ну, неважно — откройте окно, потому что, если тут такое амбре будет, он на сцену не выйдет»...
Все эти капризы от маразма возникают, от того, что по лестнице ты поднялся. Когда-то сам за водкой для других актеров бегал, потом уже за валидолом, затем за валокордином, и вот выслужился и преисполненным величия айсбергом себя ощущаешь, забывая о том, что пузо у тебя уже подтаяло и сейчас ты кверху ногами перевернешься.
Мне этого никогда не хотелось, мало того, отрицательная масса накапливается, ведь все равно мелкие конфликты в театре безусловны и неизбежны. Закулисье — страшное дело, там такой хруст костей раздается... Это всегда было, помните, у Чехова в рассказе «Бумажник», — я Антона Павловича обожаю! — когда актеры друг друга из-за денег отравили, он такой вывод делает: «Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной «солидарности», когда они обнимают и целуют вас, то не очень увлекайтесь».
Я влюбляться всегда рад был (мне больше любить, чем не любить, нравилось), но окружающими это понималось иначе. Вот со старшими у меня получалось — с ними конфликтов никогда не было, за одним маленьким исключением. В 74-м на концерт «Белые ночи» на стадионе в Питер с Борисом Чирковым ехали, известным по роли (поет голосом Чиркова: «Крутится вертится шар голубой»)...

— ...Максима...
— Вечный Максим, и вдруг с ним в СВ Корчагин оказывается...
— ...и все внимание — ему...
— Борису Петровичу неприятно, он начал как бы апарте (то есть в сторону) говорить, что «вот уже какие люди — совсем молодые, в СВ ездят», а ты-то с чего начал-то, Господи? Я ему, конечно, этого не сказал, хотя внутри у меня конфликт назревал. Смолчал, пилюлю свою проглотил: не я билеты, в конце концов, покупаю. Этот праздник «Белые ночи» Товстоногов ставил, но так случилось, что обратно мы с Чирковым опять вместе ехали.
— И все повторилось?
— Секунда терпения... Как люди меняются! Когда он узнал, что я книгочей, что мой прапрадед — книгоиздатель Смирдин, начал на меня совершенно другими глазами смотреть. Он сам был библиофил, уникальные книги собирал, как Смирнов-Сокольский (основатель Московского театра эстрады, которого «рыцарем книги» называли). В свое время у Чиркова одна из лучших библиотек была, и когда я ему стал говорить о том, что Александр Сергеевич Пушкин за стихотворение «Гусар» от Смирдина столько-то золотом получил, что мой прапрадед Александр Филиппович впервые литературный труд платным сделал, потому что раньше финансовое благополучие сочинителей только от царя да от меценатов дворянских зависело, последний бастион был взят, а поначалу это так страшно было: человек тебя просто не принимает, хотя у самого лишь: «Крутится-вертится шар голубой»... На этой почве мы с ним задружились, а вот с одногодками посложнее было, потому что...
— ...конкурент...
— Да, и вы знаете прекрасно, и многие, кто сейчас нашу с вами исповедь читает (отчасти ведь это, я считаю, исповедь), что в нашей профессии пола нет. Он есть, но его нет, у нас актрисы до скрежета зубовного актерам завидуют, которые вдруг преуспели, а мужчины, естественно, всех женщин блудницами считают, потому что «она эту роль и уже звание получила, а я тут с «кушать подано» 20 лет выхожу»...
Отвратительно! — и меня это всегда угнетало, потому что когда дело уходит...
Вот, допустим, Анатолий Эфрос гениальный... Мы с моей супругой, теперь уже тоже покойной (лапонька моя!) его хоронили... Виктор Розов об Эфросе очень много говорил, людей, которые к смерти его привели, «чернью» называл, но я интуитивно чувствовал: Анатолий Васильевич умел актеров объединять. При всем том, что да — у него фаворитка была...

—...Ольга Яковлева?
— Естественно, но одно дело, когда герцогиня-то достойная, а ведь часто она безобразной Эльзой в буквальном смысле бывает, потому что у настоящей Эльзы безобразной очень доброе сердце было. Как у леди Годивы, которая голышом верхом на коне по Ковентри проехала, чтобы жизнь человека спасти (по легенде — чтобы ее муж, граф, налоги подданным снизил). Как много я знаю, Господи! И как все сочетается!
— А я завороженно вас слушаю...
— Понимаете, это беда нашей профессии, но она до тех пор будет, пока профессия существует. Я же лишен оного качества был — во-первых, маменькин сынок, был обласкан... Мой старший брат от полиомиелита 17-летним умер, родители, зная, что не будет у них больше ни мальчика, ни девочки, все свои заботы на мне сосредоточили, а у меня с пяти лет после скарлатины порок сердца: вот меня и вылизывали... Не потому, что таким уж прямо пай-мальчиком я был — ничего подобного, но мне важно то, что мои родители от улицы меня уберегали, от многих обстоятельств жизненных, которые бы очень повредить мне могли, потому что достаточно доверчив я был. Этим от мальчишек-однодворцев отличался, у которых не только такого папы не было — они зачастую своих отцов вообще не знали, а их мамы в лучшем случае уборщицами работали. Я, заметьте, не в уничижительном смысле об этом говорю, ни в коем случае! Тогда просто двоечников на второй год оставляли и на третий, поэтому, когда я в третьем классе учился, мне девять лет, как и положено было, а рядом на задней парте мальчик сидел, которому 15 исполнилось, — думаю, он там до сих пор.

Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Кинематографическое закулисье мало чем от театрального отличалось, нас тут же попытались с «западенским колокольчиком», потрясающим актером Иваном Миколайчуком лбами столкнуть. Госкино меня на главную роль в картину «Марина» утвердило, я должен был царского подпоручика Извольского играть, но оказалось, ранее режиссер Борис Ивченко роль эту своему другу Миколайчуку пообещал, хотя в сценарии есть фраза, которую игравший революционера Афанасия Константин Степанков произносил: «Верь в революцию, мальчишка! Она плохому не научит». 32-летний Иван на мальчишку не тянул, и уж тем более не была похожа на юную революционерку его партнерша — распустившаяся восточная чинара Земфира Цахилова. В итоге со мной Ира Шевчук снималась, а для Миколайчука Боря эпизодическую роль однорукого дирижера придумал.

Я с Бориславом Брондуковым тогда подружился. 17 октября — в день рождения моей мамы — к счастью, выходной объявили, и я предложил:
— Ребята, давайте где-нибудь вина хорошего выпьем.
— Самое лучшее на базаре, — опытный Брондуков отозвался.
Сидели втроем — Борислав, Иван и я, вино нам прямо из мехов наливали. Сначала за здоровье моей мамы пили, потом — мамы Миколайчука, потом и до пап дошло. После четвертого стакана у Брондукова вырвалось:
— Ребята, я так рад, что вы врагами не стали.
— А почему мы должны быть врагами?
Пришлось Брондукову правду рассказать. Оказывается, за нашими спинами шушукались, Ивану сочувствовали: «Конкин пришел, теперь Миколайчука снимать перестанут». И добавляли: «Он так Конкина ненавидит», Но столкнуть нас не удалось, друг другу мы не завидовали».
«Кому-то покоя не давало, что выскочка Конкин в 22 года — заслуженный, в 25 — на черной «Волге», независим, по заграницам ездит, задницы не лижет, и подозрение закрадывалось: наверное, лижет кому-то...»
— Теперь к культовому фильму Станислава Сергеевича Говорухина «Место встречи изменить нельзя» переходим, где вы свою главную, на мой взгляд, роль сыграли. Может, вы со мной и не согласитесь, но народ это определил четко, а правда ли, что изначально задумывалось, будто у этой картины один главный герой будет, и именно Володя Шарапов?
— Мне трудно об этом судить, потому что я просто не знаю. Вообще-то, детективному жанру всегда герой немножечко положительный и немножечко от нормы отступающий нужен, а здесь его дуэт, этакий симбиоз олицетворяет — как бы слепок милиционера будущего. Пожалуй, один Шарапов это дело не потянул бы, поэтому то, что в фильме все-таки два героя, я закономерным считаю. Так причем не только потому получилось, что Высоцкий сам по себе мощной личностью был и как бы на первый план вылез. Нет, я так не думаю, в конце концов, именно Жеглов перед Груздевым не извинился, так сказать, на плащ интеллигенции наступил, и это страшно, потому что мальчик-то он сталинский...

— ...абсолютно...
— ...и человек для него — мусор, как гениально сыгранный Сергеем Юрским Груздев сказал. Я эту его работу обожаю и вообще как артиста и как человека люблю, и он гимн нашей интеллигенции спел, понимаете. Я вот от своих тоненьких ручек уйти не могу...
— ...от голоса, от фактуры...
— ...поэтому у меня и Шарапов там такой. Почему я Славе Говорухину предложил, — считаю, что имею право это говорить! — чтобы в комнате Шарапова фортепиано стояло? Что же, спросил, только еврейские дети на скрипочке играли? Как у Зиновия Гердта гениального, у которого по сюжету сын студентом консерватории был, а потом во время войны погиб. И русские мальчики иногда играли, почему нет? — я же сам в музыкальной школе учился. Слава согласился, и потом все это, как видите, выстроилось, потому что в процессе картины очень многие вещи менялись. Те же Вайнеры мне в лицо говорили: «Да, все-все нормально», — а на самом деле такая возня там была...
— Противодействие, я знаю, мощное было — не все в роли Шарапова вас видели...
— ...и не все видеть хотели. Должен вам сказать: простите, но это человеческая зависть — понимаете? Зависть, потому что много привнесенных обстоятельств есть. Вот Конкин выходит — чистый герой. У меня и сучки, и задоринки есть, потому что я тоже из противоречий соткан, бездна недостатков у меня, но, очевидно, они менее были заметны. Наверное, доминанта моего характера, как вы уже успели заметить...
— ...чистота...
— Посмотрите еще раз внимательно и зафиксируйте чистоту взора. Понимаете, это родовое — оно есть...
— ...породой называется...
— ...а кому-то это неприятно, кого-то нервирует. Почему 11 театров? Да тоже такое раздражение было — я его чувствовал, а я не могу работать, если рядом хоть один человек так относиться ко мне будет...

— Вы чужеродным телом себя ощущали?
— Да, но не потому, что такой хороший. Повторяю: я не без изъянов, у меня их более чем достаточно, но внешность — она иная, и окружающих это иногда смущало. Вот и мальчишки дворовые когда-то меня отлупить хотели, но потом сказали: «Кто Конкина тронет, тому морду набьем», — потому что я им всякие сказки про Муму стал рассказывать и у меня своя ниша образовалась. Так и здесь: у меня определенное амплуа было, а кому-то это покоя не давало, потому что выскочка Конкин в 22 года — заслуженный, а в 25 — на черной «Волге», выскочка Конкин независим, по заграницам ездит, задницы не лижет, и подозрение закрадывалось: наверное, лижет кому-то...
— ...втихаря...
— ...но дело в том, что это невозможно было. Если бы у моих коллег некоторых, фамилии называть не хочу, уши были, они бы поняли: я этим заниматься не могу, потому что у меня язык другой: ни одна задница моего шершавого языка плаката не выдержала бы — кровянка пошла бы.

Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Потом уже и в интервью авторов сценария «Места встречи» братьев Вайнеров слышал, да и самого Говорухина, читал: они не хотели, чтобы Шарапова я играл. Говорухин вроде бы к кандидатуре Николая Губенко склонялся, Высоцкий настаивал, чтобы его приятель Иван Бортник играл. Ничего против этих актеров не имею, но никакого противостояния двух миров — интеллигентного Шарапова и выросшего в подворотне Жеглова — с ними не получилось бы. Почему фильм сегодня актуальности не утратил? Да потому что в правоохранительных органах засилье жегловщины, закон — кистень, и когда сегодня об очередном милицейском беспределе слышишь, дрожь берет».
«На экране наша дружба с Высоцким есть, а за кулисами ее не было»
— Я вас процитирую. «Перед съемками «Места встречи» председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин сказал: «Конкин — актер идеологического фронта, если он будет сниматься — фильм будет, если нет — не будет»...
— Все это тоже за кулисами происходило, и когда сейчас начинают... Каждая вещь со временем домыслами обрастает, ведь 35 лет минуло, как картина «Место встречи изменить нельзя» вышла...
— ...а как будто вчера...

— Сколько уже людей из жизни ушло, которые очевидцами были и мои слова подтвердить могли. Кто-то сказки писать стал — не очень красивые и не очень достойные, более того, настолько бездарно-недостоверные, что просто смешно, поэтому я только перед своим 60-летием об этом сказал: как бы меня ни обижали, молчать я умею. Это у любого атомного реактора крышку срывает, когда время «Ч» наступает, а у меня ничего не сорвало: я совершенно точно и прагматично фразу вбросил, которую из уст имярек слышал. Всегда только то говорю, что сам видел, сам слышал, — лишь эти два обстоятельства дают мне право пооткровенничать, если, конечно, врожденная деликатность позволяет и это в склоку перерасти не грозит, поэтому много таких вещей есть, которые не обнародую никогда.
— Каким Шарапова сыграть вы хотели?
— Таким, каким и сыграл, и, думаю, что, в принципе, несмотря на все сложности производства картины и климат на съемочной площадке, — а он для меня, не скрою, очень тяжел был — получилось. Говорят же: «Экран покажет» — это как раз тот случай, когда внутренние шероховатости в съемочной группе, антитезия полная...
— ...все ушло...
— Да, в одно место все улетело, потому что экран показал и зрители эту работу приняли. Мало того, люди, в подробности наших взаимоотношений не посвященные, мне десятки лет говорят: «Ну, вы с Высоцким дружили», то есть на экране наша дружба есть...
— ...а за кулисами ее не было...
— Не было. У меня, вообще, два или три друга с детства было — и все, их уже нет, поэтому словом «дружба», как и «любовь», я не разбрасываюсь.
«Я никогда понять не мог, с какой ноги Высоцкий встает»
— Знаю, что начало съемок для вас мучительно-трудным было, вы один за другим дубли в диалогах с Высоцким запарывали. Позднее об этом так вы сказали: «Наверное, и Высоцкому казалось, что я комсомольский холуй, иначе откуда у Конкина «Волга», а сколько я на нее вкалывал — это ж никого не интересовало...
— ...конечно...
— ...У Семеныча между тем «мерседес» был, но все прекрасно знали, что не было бы у него никакого «мерседеса» и умер бы он под забором на 10 лет раньше, если бы в его жизни Марина Владимировна Полякова не появилась, и поэтому семья с двумя детьми оставлена была, а эта тетя вошла в его жизнь и, в общем-то, ее украсила, потому что Володя стал вкусно есть иногда, а не водку за 3.62 жрать»...
— Подписываюсь под этой фразой полностью и сейчас по одной простой причине: здесь, что очень важно, никакого подтекста нет — это правда, реалия жизни, и ей должное надо отдать. Я не батюшка и исповедовать Высоцкого не уполномочен, тем более на белом свете его нет. Все равно рано или поздно мы там соберемся. Может, Господь нас объединит, и хотя бы тогда наши души отношения выяснят и мы поймем, что оба — одного поля ягоды, но обстоятельства сложились так, что мы как бы по разные стороны оказались, хотя я неоднократно дома у Владимира Семеновича бывал, его последние записи слушал. Он мне бутылку цинандали всегда ставил, наушники давал — у него роскошная аппаратура была! — и одного оставлял, а сам на кухне или в кабинете то ли с Говорухиным разговаривал, то ли какими-то своими делами занимался. Я чувствовал, что с его стороны это проявление какого-то нормального ко мне отношения было.
— А он высокомерный был?

— Вы знаете, теперь, когда многое наружу... Я ведь все эти полтора года съемок не знал ничего...
— В смысле, про наркотики не догадывались?
— Абсолютно — ну что вы! Я просто изумлялся тому, что вот он сидит — нормальный человек, с юмором чего-то рассказывает... Мы все — и женщины, и мужчины — со смеху умирали, потому что он очень здорово изобразить мог, и вдруг...
— ...перепад...
— ...туча какая-то: искаженное бледное лицо, искры негатива летят, и здесь он совершенно не деликатен, не внимателен, не уважителен, не предупредителен был — трехэтажен, 10-этажен, 40-этажен: в долю секунды! Я никогда понять не мог, с какой ноги он встает, — работать тяжело было: ты никак приноровиться к нему не можешь, а это ж дуэт.
— Вы ссорились?
— Пару раз было.
— Крепко?
— Крепко, но в чем смысл этих ссор заключался? Они ведь никогда какого-то бытового характера не носили, хотя, возможно, подспудные причины существовали — мы об этом уже говорили. Так, слух пустили, будто я двери ЦК комсомола ногой открываю, но ничего подобного не было, зачем мне нужно было ноги себе ломать? Там своих холуев хватало, целая очередь стояла, и потом, я достаточно независим был, но они-то об этом не знали, понимаете? Им круг моих интересов неведом был, и когда у нас с Высоцким пару раз громкие конфликты происходили...
— ...творческие?
— Только, причем повода для такого ора даже и не было...
— Ора даже?
— Ора, ора...
«Слова «извините» Высоцкий не произносил никогда»
— Владимир Семенович кричал?
— Ну, глотка-то луженая! У него шепот такой же, как наш с вами крик в два горла, когда нам очень больно делают — например, иголки под ногти загоняют, и он — вот потрясающая манера! — никогда, если что, не извинялся, но извинялся. Как? Высоцкий вот понял, что меня обидел, — он более чем неглупый был человек и такой же ранимый, как все. Через 20-30 минут я стою: мне грим или костюм поправляют, потому что сейчас снимать будем, — он мимо пройдет и плечиком меня толкнет: старик, мол, переборщил, но слова «извини» не произносил никогда.
Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Съемки со сцены в бильярдной начались. Меня в отдалении поставили, потому что усы отрасти не успели: их пришлось по просьбе — будете смеяться — ЦК комсомола сбрить, чтобы Брежнев актера на съезде узнал. Первый съемочный день на 10 мая выпал, день рождения жены Владимира Высоцкого Влади — Марины Владимировны Поляковой. Она в тот момент в Одессе была, но через пару дней в Москву летела, а потом в Париж. Подъехала и моя Аллонька. Помню, Говорухин начинать скомандовал, и две женщины, каждая в своего Володю влюбленные, встали за спиной оператора Леонида Бурлаки, обнялись, прижались голова к голове и так и стояли. Марина со своего Володи глаз не спускала, моя Аллонька — с меня: я был так счастлив!

Бильярдную требовалось за пять дней отщелкать. Мы в реальном интерьере работали и, конечно, профессиональным игрокам, которые большие деньги там делали, мешали. В первый раз я увидел, как Высоцкий сорвался. Посетители к Володе с добрыми словами подошли, а ему показалось, что панибратским тоном с ним разговаривают. Почитателей Владимир Семенович трехэтажным матом крыл, а потом и моя очередь настала.
Когда эпизод в отделе по борьбе с бандитизмом снимали, какую-то оговорку я допустил. Бывает такое — мы ведь не роботы, и это кино: всегда можно еще один дубль снять. Вдруг ни с того ни с сего — 10-этажный мат. Высоцкий всем объяснил, кто я есть, пригрозил, что он сейчас уедет и больше со мной в кадр не войдет, а орать на меня нельзя, к такому я не привык, ни мама, ни папа никогда себе такого не позволяли. Честно признаюсь: чуть не расплакался, был совершенно выбит из колеи.
Перерыв объявили, в себя кое-как пришел... Съемки продолжились, я у стола, повернувшись спиной к группе, стоял. Вдруг стук каблуков слышу — все ближе и ближе, а сапоги на каблуках одному Высоцкому пошили — из-за маленького роста. Он ко мне подошел, плечиком толкнул и дальше двинулся — я понял, что таким образом извинился, и мне полегчало. За полтора года съемок не слышал, чтобы Высоцкий, когда резок и груб бывал, у кого-то прощения попросил, — знал он эти слова или нет?
Я человек ранимый, но решил: нужно это качество в себе отключить, иначе до конца картины не доживу, однако как не реагировать, если мы с Высоцким постоянно в кадре, неразлучны, будто муж и жена, да еще Слава Говорухин порой делает вид, что засыпает, демонстрируя всем, насколько ему скучно?
Однажды ситуация все же достала, уже чемодан собрал, но тут на съемки Витюша Павлов приехал. Это он меня остановил, стал сценарий читать, да так смешно, что я, как на концерте Аркадия Райкина, хохотал, во весь голос. Витя накопившийся стресс из меня выбил.
Приехал он на съемки пролога, где наши герои, Шарапов и Левченко, за линию фронта брать немецкого языка шли. В этой роли сын Марины Влади Пьер Оссейн снимался. Петя — замечательный парень, талантливый гитарист, прекрасно по-русски говорит. По сюжету немцы рейд советских разведчиков обнаружили, и мы с Витей по очереди на себе связанного Петьку с кляпом во рту тащили. Нужно было до болота добежать, в лодку сесть, и как только от берега отчалили, подводные взрывы начались. Пиротехники перестарались, наша лодка, которая и так на ладан дышала, тут же продырявилась и тонуть стала. Мы с Витюхой несчастного мальчика, связанного по рукам и ногам, подхватили, спастись попытались, а дно илистое, нас засасывать начало — еле на берег выбрались. Как тогда Петю не утопили, один Бог знает.
На берегу съемочная группа от восторга ликовала: гениально играют! — а мы тонули по-настоящему. В окончательном монтаже этот эпизод в корзину улетел, несмотря на то, что Говорухину нравился, но Слава — умница, он интригу решил сохранить, не раскрывать, что герои знакомы, до того момента, как Шарапов и Левченко в банде встретятся.
Когда мы с Павловым насквозь промокшую форму скинули, я увидел, что вся спина у Вити в темных кругах от банок. Оказалось, ради съемок у Говорухина он воспаление легких не долечил, буквально с постели в Одессу приехал. У меня в номере бутылка «Бехеровки» завалялась, и, чтобы не заболеть, мы ее распили. Фото есть: Витюша, обнаженный до пояса, с бутылкой в позе горниста стоит — смотрю на эту фотографию и вздыхаю: как же рано он ушел!..
Эпизоды с карманником Костей Кирпичом в разных городах снимали — милицейский кабинет, куда Жеглов и Шарапов Кирпича приводят, был на Одесской киностудии выстроен, а сцену в трамвае доснимали позже в Москве. Когда Стасик Садальский в Одессу прилетел, неимоверная жара стояла, и с самолета он сразу в кадр попал. Вроде бы все отрепетировали, но едва съемку начали, Садальский оговорился. Высоцкий снова в ярость впал, орал и материл его так, что двухметровый парень от расстройства забыл текст. Я к Садальскому подошел, шепнул: «Стасик, перерыв на полчаса попроси». Он послушался.
Тут маленькое отступление требуется. Когда Высоцкий грубо бильярдистов отшил, они ко мне — Корчагину — переметнулись: профессиональные игроки шаромыгами лишь прикидывались — потертые штаны и засаленные пиджачки носили. На самом деле эти богатейшие люди свои «форды» в отдалении от бильярдной парковали, так вот, мы подружились, и каждое утро на студию автомобиль въезжал, их дары доставлявший — огурчики-помидорчики, соления, жареную барабульку, которая еще утром в Черном море плавала, и неизменную бутылку шампанского. Мой персональный дастархан всегда на площадке за каретным сараем накрыт был — туда чуть не плачущего Садальского я и привел. Шампанское откупорил, по стаканам разлил.
— Стасик, прими, тебе это необходимо.
— Может, не надо?
— Давай, не спорь!
Потом по второму выпили.
— Отпустило? На Высоцкого внимания не обращай — текст ты знаешь, свою линию гни.
Еще по половинке выпили и сниматься пошли. Садальский взбодрился, на репетиции все нормально прошло, текст вспомнил. Осветительные приборы врубили, от жары Стаса немножечко развезло: «Коселек-коселек, какой коселек?». Высоцкий тут же отреагировал, передразнил его — в итоге в картину этот дубль и вошел. Так шепелявость фирменной чертой Кирпича стала.
...Кому-то кажется, что Высоцкий меня переиграл, — никогда с этим не соглашусь! Высоцкий эту роль, как говорится, на своей жизненной коде сыграл — то есть во многом там самого себя проявил. Обещал Говорухину за другие проекты не браться, на время съемок от концертов отказаться, но обманул, параллельно у Швейцера в «Маленьких трагедиях» стал работать. Иногда мы его неделями ждали».
«Мне кажется, кого-то величием наделять — это удел следующих поколений. На мой взгляд, рановато так много памятников Высоцкому, рановато»
— После смерти Высоцкого великим называть стали, а сегодня, когда время прошло, вы с этим определением согласны?
— Я никогда, наверное, так не скажу, потому, что великий для меня — Пушкин, и если учесть, что при жизни Александра Сергеича только несколько дам, которые, естественно, в его донжуанском списке были, великим его называли, а так, в общем-то, его поэтом считали, каких много...
— Они, наверное, по другой причине великим его называли...
— Не знаю (смеется), не видел — я тогда еще не родился и на лавры литературоведов Михаила Гершензона и Леонида Гроссмана, автора замечательных «Записок д’Аршиака», не претендую. Они гениально об Александре Сергеевиче написали, с любовью, с какими-то удивительными подробностями, но предварительно все это тщательно исследовали. Я, во-первых, не такой пушкинист, а во-вторых, в замочную скважину не заглядываю, но мне кажется все-таки, что кого-то величием наделять — это удел следующих поколений. На мой взгляд, рановато так много памятников, рановато — есть на очереди еще люди, которые не меньше как отлитыми в бронзе быть достойны, да и нехорошо из контекста нашего бытия того или иного человека выдергивать: этим определенная обида и нам наносится, те или иные обстоятельства знавшим... Наверное, нам всем нужно из жизни уйти, прежде чем новое, взращенное поколение, которое на смену придет, самостоятельно знаковые фигуры эпохи выберет, — мы можем об этом писать, говорить, но памятников слишком много: мне так кажется...
Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Многое в Володе мне не нравилось, многое раздражало, безапелляционность смущала, но я тоже не мог его не любить. Тогда и понятия не имел, что его взрывной характер, грубость на площадке — последствия ломки, а сейчас об этом известно всем. Сын Никита эту тему в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» развил, где автором сценария выступил. На мой взгляд, если бы Никита отца по-настоящему любил, не стал бы его наркозависимость афишировать и не подумывал бы водку имени Высоцкого выпустить — не такую память о Владимире Семеновиче оставлять надо.
Никите напомнить хочу: твой отец — гений. Можно трижды потрясающим артистом быть и всеми признанным, пока жив, но ты ушел, и тебя сразу забыли, а вот Высоцкого не забывали и никогда не забудут. Странно, что на концерты памяти отца Никита кого угодно приглашает (о Высоцком теперь Безруков вспоминает — что он вообще может о нем знать?), только не Марину Владимировну. Последнее время даже Ваню Бортника не зовут — все изменилось».

— Это правда, что во время съемок эпизода, где Фокса в ресторане брали, вы по-настоящему стекло головой пробили?
— Нет, неправда. Во-первых, стекло не настоящее было, а каскадерское, над ним больше, чем над всеми исполнителями, вместе взятыми, тряслись, потому что оно одно было, и можно было только единственный дубль снять. Стекло, даже каскадерское, свои изъяны имеет — я с ними еще в «Романсе о влюбленных» у Кончаловского столкнулся, когда лицом в электричке стекло выбивал. Впритык к железной двери попал, а стекло такое твердое оказалось, осколки тяжелые, и меня изрезало...
— До сих пор шрам виден...
— Да, вот он... Кровища хлыщет, тут же нарисованная, — понять ничего нельзя, и здесь та же история была. Стекло вреда мне не причинило, а вот то, что сверху висело... Вот такой кусило по лбу чиркнул и порезал, хотя там сгоряча и не почувствовал...
— Мне по этому поводу фраза Жеглова-Высоцкого вспомнилась, которая в народ пошла: «Ну и рожа у тебя, Шарапов»...
— (Смеется).
«Братья Вайнеры ушлые были ребята — да если бы не фильм, который они якобы так не любили, кто бы о них сегодня помнил?»
— Кстати, а много анекдотов вы о себе и Жеглове слышали?
— Какие-то слышал, но в последнее время у меня с ними неважно стало — я их не запоминаю. Когда-то очень хорошо умел и про Жеглова с Шараповым, и про Штирлица рассказывать...
— Какой-то про Жеглова и Шарапова вспомните?
— Нет, уж лучше про Штирлица...
— Давайте!
— Штирлиц утром встал спозаранку — Позаранку была румынской разведчицей.
Ну и еще. Штирлиц чудом отбился — на него напало четверо. Наутро чудо распухло и мешало ходить.
Понимаете, много чего можно, и этого по одной простой причине я не хочу. Сейчас что ни политик — или поет, или пляшет, а уж анекдоты рассказывают все, поэтому мне, актеру, как бы не совсем прилично этим заниматься, и в застольях то же... Я уже устал от того, что нашу жизнь, достаточно непростую, все время в какой-то...
— ...балаган превращают...
— ...в анекдот, какое-то потешение, хотя зубоскалить на эту тему совсем не хочется.
— Одно время о съемках продолжения «Места встречи» говорили...
— Это братья Вайнеры, которые под те слухи пятитомник выпустили. Ушлые были ребята...
— Следователь и журналист...
— Да если бы не фильм, который они якобы так не любили, что в титры себя вставлять не хотели, кто бы о них сегодня помнил? Да благодаря этой картине..
— ...их узнали...
— ...о чем речь, а все их «Гонки по вертикали» (повесть Вайнеров, по которой Александр Муратов в 82-м одноименный фильм снял. — Д.Г.), по диагонали и по перпендикуляру никому, по большому счету, не нужны были...
Вот «Место встречи» состоялось, это уникальный случай, когда мы все что-то вложили... Понимаете, у нас дитя пятисерийное родилось, а мы все такие родители ревнивые и заграбастать его хотим — это мое детище, мое! И ведь почти каждый из нас на это право имеет, потому что в картину свое внес. Если бы односерийная лента была, может, еще не все бы успели...
— Звезды сошлись...
— И звезды, и актеры... Если бы Говорухин Тютькиных-Мутькиных снимал, никто бы его и не знал, сидел бы он в своей Одессе, извините, и (пальцем в носу ковыряется) депутатом никаких Дум не был бы. Дело в том, что Слава, умница, всегда компанию собирал и знал, на ком выедет, поэтому ни одного актера он не открыл. Вот Тарковский Солоницына открыл...
— Ну почему Говорухин никого не открыл? А Ходченкову?
— Ну, ему хочется чего-то, он замечательный, я его люблю, другое дело, что всегда буду говорить ему то, что возможным считаю, потому что знаю его хорошо. Конечно, родителей у этой картины много: и Слава, и Володя Высоцкий, и Вайнеры, и Валя Гидулянов, и Ленечка Бурлака — нашему операторскому цеху кланяюсь, это гениальные операторы. Хотя несколько накладок было: вдруг машины современные в Сокольниках показались, еще что-то, но это как раз пустяки. По их поводу, кстати, никто не глумится, потому что главное есть — чистота тона и перспектива завтрашнего дня.
— И время...
— Я тоже как бы родитель этой картины — отчасти. Я был против той сусальности, которую Борис Хесин, руководитель объединения «Экран», насочинял — он же весь сценарий перечеркал. По его воле в пятой серии Шарапов после задания к Варе Синичкиной идет, и она с усыновленным младенчиком его встречает. «Господи, какой сироп!» — я подумал. Мне почему-то нравилось, что у Вайнеров Варя погибает, — так страшно, но в сценарии уже этого не было, а потом еще и сироп прибавился. Тогда, признаюсь, меня от него воротило, но сейчас, много лет спустя, именно этот момент для просмотра своего оставляю и, когда вижу его, плачу, потому что, снимаясь там, я не знал, что нашей большой страны не будет, что мне 50, 60 лет исполнится, что из жизни моя супруга уйдет, что меня мама и папа покинут... Я тогда слишком благополучен в семейной жизни был...
— ...и молод...
— Естественно, и это как некий сироп воспринимал. Теперь понимаю: как же гениально все придумано! Тем более в наше жестокое время, когда женщина — никто, мужчина — гермафродит, детей режут, колют, мучают, насилуют и в окошки выбрасывают, а здесь чистота тона, и вот то, что Варя стоит (она героя Шарапова ждала) и на руках у нее младенчик — это хорошая кода. Сейчас, я уверен, миллионы наших зрителей, и не только женщины...
— ...видя ее, так же плачут...
— Нет, это я плачу, а они как обещание светлого будущего воспринимают, как будто создатели фильма им говорят: «Мы эту «Черную кошку», эту гадюку, за хвост поймаем». Кто же знал, что у кошки хвостяра такой длинный: ты его схватил, а он резиновый, оказывается, и тянется, тянется. Мы все уже тянем и вытянуть не можем...
Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Не было бы без меня никакого фильма: мою кандидатуру тогдашний председатель Гостелерадио Сергей Георгиевич Лапин и главный редактор творческого объединения «Экран» Борис Хесин одобрили. После выхода «Как закалялась сталь» эти могущественные люди симпатию ко мне испытывали, я к тому времени уже был премией Ленинского комсомола награжден, международные призы получил, а Говорухин обычным режиссером был, каких много. В квартире у него даже телефона не было, и когда каждые две недели он в Москву отснятый им материал показывать отправлял, частенько меня с собой брал, верно рассчитав: начальники любимого Конкина увидят и что-то переснимать не заставят».
— 10 лет назад в Одессе сериал «Ликвидация» сняли, который с «Местом встречи» перекликается...
— Мне говорили, что перекликается, но я его не видел. Телевизор практически не смотрю, и я не лукавлю — поверьте, мне это неинтересно. Если «ящик» включаю, то какие-то новости или по культуре передачи, чтобы не отстать от того, как макаки у нас размножаются. Я уже совершенно дик, к сожалению...
(Окончание в следующем номере)

 Постоянный представитель Украины в ООН Владимир ЕЛЬЧЕНКО: «Комнаты для переговоров в ООН тесные, и мы постоянно рядом с россиянами. Что бы мы ни сказали, они уже против»
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир ЕЛЬЧЕНКО: «Комнаты для переговоров в ООН тесные, и мы постоянно рядом с россиянами. Что бы мы ни сказали, они уже против» Актер Владимир КОНКИН: «Я не батюшка и исповедовать Высоцкого не уполномочен, тем более на белом свете его нет. Все равно рано или поздно мы там соберемся, может, Господь нас объединит, и хотя бы тогда наши души отношения выяснят и мы поймем, что оба — одного поля ягоды»
Актер Владимир КОНКИН: «Я не батюшка и исповедовать Высоцкого не уполномочен, тем более на белом свете его нет. Все равно рано или поздно мы там соберемся, может, Господь нас объединит, и хотя бы тогда наши души отношения выяснят и мы поймем, что оба — одного поля ягоды» Смеялся ли Христос?
Смеялся ли Христос? Вахтанг КИКАБИДЗЕ: «Наша с Димой Гордоном дружба много дала нам обоим — он в конце концов запел, а я автобиографическую книгу написал»
Вахтанг КИКАБИДЗЕ: «Наша с Димой Гордоном дружба много дала нам обоим — он в конце концов запел, а я автобиографическую книгу написал» Дмитрий БЫКОВ: «Мы прошли парламенты и путчи, нищету и собственный ИГИЛ — и привыкли: нам не станет лучше, кто бы там кого ни победил»
Дмитрий БЫКОВ: «Мы прошли парламенты и путчи, нищету и собственный ИГИЛ — и привыкли: нам не станет лучше, кто бы там кого ни победил» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги