Армен ДЖИГАРХАНЯН: «Никто мою дочь не убивал, и состава преступления там нет. Так случилось... Жизнь — страшная, жестокая штука, но так уж она устроена, что больше всего мы себя любим»


(Окончание. Начало в № 21)
«Без любви любовь сыграть невозможно»
— Многие актеры по пять, шесть, семь жен меняли, некоторые со счета сбивались, а вы сколько раз женаты были?
— (Смеется).
— Вспоминаете?
— Нет, просто думаю: количество что-то решает? Если официально, дважды, а так... Не знаю. Нет, не знаю, потому что сказать о своей профессии, что она многоликая, не боюсь, и если ты актер, способ найти должен, чтобы в себе способность любить будить, — иногда это надо.
— Будили?
— Обязательно — а иначе нельзя.
— Любовь без любви сыграть невозможно?
— Думаю, что нет.
— Даже техничному актеру?
— Технично — это как? Глаза делать?
— Глаза, руки, улыбку...
— Нет, нет! — актриса как женщина это сразу почувствует.
— А не должна?
— А тогда это очень фальшиво, неискренне выглядеть будет. Честно вам скажу, и этого не боюсь: я все равно влюбляюсь. Вот с Инной Чуриковой «Город миллионеров» играл — конечно, влюблен был и счастлив.
— Из 250 фильмов, я думаю, минимум треть, то есть 80 где-то, о любви были — правда?

— Да.
— И вы постоянно в партнерш влюблялись?
— А как иначе?
— Вы любвеобильный человек просто...
— Профессия такая... Конечно, я и детей на съемочной площадке любил, и брата, и сестру обожал, потому что это в основе актерской профессии.
— Работа над фильмом завершалась, вы расходились, и любовь на этом тоже заканчивалась?
— (Смеется). Ха-ха! Ой, какой вы хитрый!.. Когда-то, еще молодым, я в Ереване в картине снимался — она плохой оказалась! Там замечательный сюжет был: вроде бы кино о кино снимают, — не сделали! Я отца играл, а кто-то из актрис — мать, на роль сына мальчика из детдома привели, и в течение двух или трех месяцев ему говорили: «Саночка, вот этого дядю папой называть будешь, это мама». Еле-еле уговорили, а потом съемки закончились, и этот ребенок в свой детдом вернулся.
— Кошмар!
— А про актера подумайте!
— Куда он возвращается...
— (Кивает). Того мальчика я через несколько лет, уже повзрослевшим, увидел... Не знаю, отравили его теми съемками или не успели.
— И хочу, и должен, и сомневаюсь, и не решаюсь вам этот вопрос задать. Деликатно об этом спросить попытаюсь...
— Я деликатно ответить постараюсь.
— Ваша дочь Елена начинающей актрисой была, уже в театре играла... В 23 года она трагически погибла — как это произошло?
— Не знаю... (Горько). Никто ее не убивал, и состава преступления там нет. Так случилось... Жизнь — страшная, жестокая штука...
— Это правда, что по всем, черт побери, законам жанра, даже если у актера только что мать или жена умерла, вечером он должен на сцену выйти? Я читал, что и вы спектакль в тот день, когда о трагедии с дочерью узнали, отыграли...
— Нет, это неправда — не смог.
— А в афише спектакль с вашим участием стоял?
— Мы премьеру выпускали, причем дочь в ней тоже участвовала... Нет, нет! У меня друг был — большой человек (его уже нет)... После того страшного несчастья я ему признался, что мне очень трудно, я выйти на сцену не могу, разрыдаться боюсь, и он мне сказал: «Иди, не бойся!». Через 10 дней я все-таки премьеру сыграл и тогда понял, какая у нас, актеров, великая профессия. Я там выплакался, погоревал, боль свою излил...
— Это же единственная ваша дочь?
— Единственная.
— Казалось бы, после такого удара все кончено и жизни больше нет...
— Нет, это неправда.
— Все продолжается?
— Конечно — так уж жизнь устроена, что больше всего мы себя любим.
— Какие жестокие и искренние слова... Однажды вы признались, что часто с мамой во сне разговариваете, — о чем?

— Что-то рассказываю — например, анекдоты. Помню, как заразительно моя мама смеялась! Она так: эхе-хе! (закидывает голову) хохотала — до потери сознания, и я просто вспоминаю, с ней говорю... Вот мы с вами часто рассуждаем о том, что такое память, что такое жизнь. Кого-то насиловать, мнение свое навязывать права я не имею, но со свечкой ходить и молиться — не мое.
Я свою маму мертвой не видел: на гастроли уехал, а когда вернулся, она уже умерла. Может, из-за этого, а может, по другой причине, но до сих пор она есть, со мной живет, просто это другое измерение имеет. Я, разумеется, нормальный человек, знаю, что ее нет, но все равно время от времени мысль мелькнет: «Ох, забыл у нее спросить, а где тетя Буля-Муля...». Вот так говорить продолжаю...
— О маме с дочерью вы однажды сказали: «Я и в них нуждаюсь, и в своем одиночестве». Одиночество вы физически чувствуете? При всей своей востребованности...
— (Отрицательно головой мотает). Это мои дела — подробностей никто не знает и, думаю, знать не должен. У меня все, как у других, но природа великую профессию мне дала, поэтому я о смерти моей дочери рассказал. Я знаю, что там, под софитами, моя жизнь, — на сцене я себе чувство любви, чувство мамы, папы верну — все равно верну.
— Память вам жить не мешает? Вы никогда не думали, что без нее намного легче было бы?
— Думаю, что не легче. Это хорошее свойство, и будем жестокими: да, это хороший обман.
«Мой кот Фил — это безумная и последняя любовь моя, мой Бог, а дедушку с бородой я не знаю, с ним незнаком»
— В прошлый раз мы с вами о вашем коте-философе Филе говорили, и я недавно узнал, что он, оказывается, вас спас, буквально с того света вытащил. Вы действительно погибнуть должны были?
— (Смеется). Я эту историю как иллюстрацию к более сложному вопросу: Бог есть или Бога нет? — рассказывал.
— А есть или нет? Вот честно...
— Мой Фил — это мой Бог: сказать это я не боюсь.
— А дедушка с бородой?
— А дедушку с бородой я не знаю, с ним не знаком. Той ночью я от друзей ехал — в лоскуты пьяный не был, но... Вдруг дверь открылась и Фил на меня прыгнул — я проснулся, встрепенулся и увидел, что на предельной скорости по встречной полосе мчу.
— Заснули?
— Да, ночь глубокая была... Вот тут и подумал, что он — мой Бог: мой, мой! Эту мысль никому даже предлагать не буду, а так, вообще, какой-то среднестатистический Творец — думаю, что он хуже справится. Да, мы все равно в утешении нуждаемся, придумываем себе...
— ...сказки красивые...
— Конечно — чтобы от истины не умереть.
— Как вы думаете, ваш кот — это ваша последняя любовь?

— Безумная любовь моя! И да, последняя, хотя я уже вам признался, что профессия у меня любвеобильная. Все равно сейчас я в театр иду, трансляцию включаю — ребята «Ромео и Джульетту» играют, а я с ними плачу, смотрю, как они там.
— То есть вы еще впечатлительный?
— Чувственный. Я вам уже в этом признался... (Смеется).
— После того как своего любимого кота потеряли, желания другого взять у вас не было?
— Нет, нет!
— Почему? Память Фила предать боялись?
— Ну как же я на кого-то его поменять мог? — я же ждать буду, когда в той, следующей жизни, ко мне он придет.
— То есть вы подсознательно верите, что в другом мире его увидите?
— (Пауза). Нет, на этот вопрос не отвечу.
— Почему кот, а не собака?
— Этого никто не знает. Может, какие-то гены-шмены, какие-то запахи сработали... Почему-то меня — оп! — в ту сторону потянуло, и я туда пошел.
«Режиссер торопит: «Ты можешь чуть быстрее идти?», и я говорю: «Нет, сынок, другого актера ищи»
— 82 года вам сейчас — это старость или еще нет?
— Это, как другу вам скажу, много, это, я бы сказал, ответственно.
— Наверное, не верится, что это вам, который вчера еще бегал, прыгал, ночи напролет гулял, уже 82?
— Верится, верится! Когда вдруг быстрее не могу, активнее не могу — особенно на съемках всяких. Режиссер торопит: «Ты можешь чуть быстрее на меня идти?», и я говорю: «Нет, сынок, другого актера ищи».
— Старость — это плохо?
— Для меня — да.
— И 82 — плохо?
— Это много.
— Стоит та мудрость, которую вы к 82 годам накопили, того, что быстрее идти не можете? Одно другое компенсирует?
— Нет.
— Вы предпочли бы быстрее идти и быть глупее?
— Да, лучше быстрее двигаться — особенно если по делу, а не просто чтобы медаль какую-то завоевать. Философствовать тут я не буду, потому что вопрос сложный, но мне кажется, что природа компенсацию придумывает и, старея, человек почему-то активность теряет. Так обстоятельства складываются, что он или она меньше бегают, потому что в их жизни что-то серьезно меняется — они утраченную энергию компенсировали.
— Чем больше лет, тем больше и тягостнее одиночество?
— (Вздыхает). Не знаю. Одиночество — это хорошее состояние.
— Вы об уединении, наверное, говорите?
— Нет, именно об одиночестве, когда ты внутри сосредоточен, в себе... Можно на людях... Надо просто этого состояния не бояться, не бояться внимание, восприятие выключить, а если про жизнь, про быт говорить, то я знаю: одному не хорошо.
— Вы до сих пор пьете и курите?

— Уже 10 лет не курю, а височку пью: этим обязательно день заканчиваю — вечером грамм от 50 до 100 наливаю.
— Не армянский коньяк?
— Нет, именно виски.
— Почему же так непатриотично?
— Коньяк принимать тяжелее. Один хороший врач меня научил, как себя в норме поддерживать, — видишь, секрет выдаю, который большой специалист подарил. Он сказал, что любой нормальный человек должен в день минимум 20 граммов спирта выпить — соответственно, водки в два раза больше.
— Время вы уже бережете или еще растрачиваете?
— И не растрачиваю, и не берегу — проблемы такой не имею. Может, жизнь в чувство меня приведет, но пока комплекса возраста у меня нет: и на репетиции мне хорошо, и не на репетиции — когда она идет, покемарить могу. Да, да, хорошо!..
— «Меня, — вы сказали, — радует то, что не огорчает» — по-моему, блестящая формулировка. Сегодня вещи, которые сильно вас огорчают и даже из себя выводят, есть?
— Предательство. Измена. В любом виде.
— С вами связанные или в общем?
— Нет, нет, именно связанные со мной.
— А до сих пор предают?
— Обязательно! Еще как! Не забывайте, что я театром руковожу.
— А-а-а... Ну там да, там это святое...
— Шо вы говорите... Нет, это тоже мои проблемы — я все равно противоядие должен найти, а не упасть и не сковырнуться.
— Лицом кавказской национальности в Москве вы себя чувствуете?
— Нет, не было такого.
— То есть паспорт с собой не носите?
— Никогда, и вроде... Нет, не упрекали...
— Моменты, когда вам напоминали, что вы нерусский человек, были?
— Ни разу такого не говорили.
— Это любовь!
— Хочу надеяться.
«Неприязни, предубеждения к азербайджанцам у меня нет, честно, и пусть меня и в Нагорном Карабахе, и в Баку услышат»
— Этот термин — «лицо кавказской национальности» — откуда пошел, вы не знаете?
— От страшного невежества. Вообще, невежество — очень опасная вещь, а если еще некой моралью становится... Например, у нас в искусстве ли, в литературе ли лидеры есть, которые какие-то идеи нам выдвигают, про национальное самосознание твердят, так вот, я очень этих людей боюсь, очень, потому что с человеком любой национальности договорюсь.
— Даже с азербайджанцами?
— Любой! У меня друзья-азербайджанцы есть — недавно вот в Москве деятелей культуры и искусства награждали, и рядом со мной замечательный Рустам Ибрагимбеков сидел. Неприязни, предубеждения у меня нет, честно вам говорю...
— И я вам верю...
— Мысль: «Этого не должно быть — Боже, может, мне выйти?» — у меня не мелькнула.
— Хорошо, что нас в Нагорном Карабахе не слышат...
— Нет, пусть и там услышат...
— ...и в Баку?
— И в Баку, потому что эти идеи, эта мораль именно на то рассчитаны, чтобы ненависть нам внушить, и те, кто их исповедует, не знают, что между людьми не только национальные, но и другие связи есть, которые гораздо важнее.
— В Советском Союзе дружба народов реальная была или придуманная?
— Частью придуманная, частью устроенная. Совсем просто скажу: вот такое понятие есть — соцреализм, и это самая опасная вещь. Теория его требует жизнь не такой, как она есть, показывать, а какой должна быть, то есть некую сказку, и вот из-за этого картинку придумывать начали, до совершенства доводить, и потом выяснилось, что люди озверели, потому что почву под ногами не получили, — понимаете? Например, я нормальный человек, как и многие, но у меня национальные качества есть...
— Гордость?
— И гордость, и стыд, и так далее... Я знаю, что один из главных и сложных конфликтов между армянами и азербайджанцами — религиозный, причем, опираясь именно на религиозные законы, его разрешить можно, просто ловкачи проблему из этого делают, и геноциды из-за того происходили, что кто-то повод находил на секунду...
— ...невежественных граждан завести...

— Умница моя! — конечно, невежественных. В основе всего этого — только невежество, потому что люди не ведают, что именно разность понимания истину найти позволяет. Вот мы каждый день репетируем, при этом разные мнения возникают, но мы же не ругаемся — точнее, ругаемся, но друг друга не режем.
— Плюрализм мнений, как Михаил Сергеевич говорил...
— Потому что хотим — это самое главное! — спектакль сделать...
— ...и другого понять. Кстати, это правда, что с квартирой в Москве вам в свое время азербайджанец Гейдар Алиевич Алиев помог?
— А я этого и не скрываю... Мне квартира нужна была — я жилищные условия улучшить просил, и кто-то из друзей в этом помогал, а я как раз в Азербайджане был — мы «Тегеран-43» снимали. Нас Алиев, в то время уже зампред Совмина СССР, принимал, и кто-то мне посоветовал: «О своем деле ему напиши». Я его помощникам письмо отдал, потом позвонил, и мне сказали: «Передали». Вскоре ответ получил — помогли, поэтому, великого человека перефразируя, скажу: постоянных друзей и врагов у меня нет — есть только постоянные интересы.
— В Баку вы в последний раз давно были?
— К сожалению, давно, и это тоже очень показательная история. Я там в какой-то картине снимался (сейчас уже название не вспомню) — в те сложные, непростые времена, о которых мы уже говорили. В Баку прилетел, и, как нередко в советском кино бывало, меня не встретили. Из аэропорта я такси взял, водитель-азербайджанец спросил: «А куда?». Действительно, время уже позднее было... (На часы смотрит). Он и предложил: «Давайте я вас к себе домой отвезу». Это я вам не сказку рассказываю...
— Я верю...
— Поехали. Приняли меня прекрасно: чаю попили, погуляли — ну и съемочной группе моей знать дали, где я их ждать буду. Вот из жизни пример, поэтому я говорю, что друзей и врагов у меня нет, — интересы есть, и если за ними люди — люди! — стоят, все хорошо будет.
— Сегодня, после всего, что в Баку и в Сумгаите, в Нагорном Карабахе произошло, в Азербайджан приехать вы можете?
— В тот самый страшный момент (ну конечно, страшный!) мне из посольства Азербайджана позвонили и пригласили: «Приходите, чаю попьем» — и я пошел. Не могу сказать, что это какая-то акция была, вызов — нет, элементарный здравый смысл, потому что драться, воевать...
— ...из-за разных религиозных взглядов можно...
— Вопрос только в том, до каких пор? Мы соседи, мы всю жизнь, всю историю вместе прожили...
«В течение 10 лет в Америку дважды в год я летал — 16 часов в самолете, и врачи мне сказали: «Не надо! Стоп!»
— Армен Борисович, мировая армянская мафия, о которой столько разговоров ходит, особенно во Франции и в Соединенных Штатах, в частности в Лос-Анджелесе, существует?
— Наверное. Не знаю. Не интересовался... Кстати, я в Болгарии был, когда там турецкого дипломата убили (9 сентября 1982 Бора Суелкан, атташе по административно-хозяйственным вопросам в турецком консульстве в Бургасе, армянским боевиком перед собственным домом убит был. — Д. Г.), и тогда понял, что этот жанр не люблю.
— Не ваш жанр?
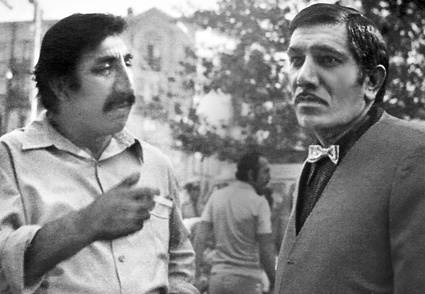
— Нет, нет! Лучше договориться, лучше что-то с этого взять, какие-то бонусы получить и себя, свою душу, свои взаимоотношения обогатить.
— Это правда, что армяне тех своих соотечественников, чьи имена знаковыми, известными в мире стали, очень поддерживают — таких, как Шарль Азнавур, например? Я, кстати, слышал, что вам в Лос-Анджелесе армянский поклонник семикомнатный дом подарил...
— Я с вами согласен, но не в этом большое счастье. Нет, все нормально, но не дай бог, если этому умиляться мы будем, и тут непростая проблема кроется. Я, например, очень внимательно к подаркам всегда отношусь и думаю, что человек теряет, перед тем как мне что-то дает...
— Ну, он, давая, приобретает...

— Надо посмотреть, выяснить. Я тоже всякие библейские изречения на эту тему читаю, и не всегда они меня успокаивают, потому что я жесткий реалист — жесткий!
— Хоть не соцреалист...
— Не дай бог!
— В Соединенных Штатах вы часто бываете?
— Одно время часто — в течение 10 лет туда дважды в год летал.
— Тяжело же, далеко...
— Очень! — 16 часов в самолете, и врачи мне сказали: «Не надо! Стоп!».
— Сейчас туда не летаете?

— Пока нет.
— Вы по менталитету больше русским человеком или армянином себя ощущаете?
— Не знаю. Ну, говорю на русском — это мой рабочий язык, так сказать.
— А армянский еще не забыли?
— Нет, нет — и теперь назначайте меня, куда нужным считаете.
«Я нуждаюсь! Театр тяжело живет, поэтому ходим, просим»
— Вы можете себя... ну не состоятельным, но не нуждающимся назвать?
— Нет, я нуждаюсь! Нуждаюсь, нуждаюсь, потому что это от того, чего ты хочешь, зависит. Денег, чтобы машину бензином заправить, пока еще хватает, но есть более серьезные вещи. Я бы хотел, скажем, свое дело иметь, чтобы свой театр поддерживать, а сейчас нам непросто приходится, знаете. Театр, русский, во всяком случае, — я ответственно это говорю! — тяжело живет, поэтому ходим, просим. Есть те, которые безвозмездно помогают, и бесконечно им благодарен, но свой бизнес иметь предпочел бы. Если бы еще знать, как это сделать... Понятно, что никель-микель нигде я купить не могу, но если бы можно было, я бы с удовольствием... Просто не умею — более того, знающие люди мне говорят: «В это дело не влезай...».
— «...убьет!»...
— Убьют, неприятности наживешь, потому что просто так туда заходить нельзя.
— В советское время актеры, даже самые популярные, фактически нищими были — их гонораров, которые несведущей публике заоблачными казались, в общем-то, ни на что не хватало. Только после перестройки несколько иные деньги платить стали, а вы помните, какой у вас самый большой гонорар был?
— 10 тысяч долларов.
— За роль?
— За всю картину — их, по-моему, из Израиля я привез. Как сейчас, помню: домой пришел, сумку открыл и все 10 тысяч на кровать бросил. Они долго лежали, а мы все смотрели: вот это наше...
— Они до сих пор у вас лежат или потратили?

— (Смеется).
— Я почему-то эпизод из «Ширли-мырли» вспомнил — вообще, прекрасный, по-моему, фильм, а поначалу пустым казался, но время все по местам расставило...
— Я и тогда думал, что это очень хорошее кино...
— Я понимаю, что 250 картин посмотреть невозможно, но что-то свое вы пересматриваете? От начала и до конца?
— Специально — нет. Однажды я куда-то сниматься приехал, ночь была, но мне не спалось — переезд, переход... Телевизор включил, а там «Ширли-мырли»: так до утра и просидел — до конца посмотрел.
— Вы там себе нравитесь?
— А я вообще себе нравлюсь.
— Класс!
— Да, да, хороший я! Думаю, что всем нам очень важно возможность иметь сказать: «Я себя люблю!», и артистам своим и друзьям часто повторяю: «Любите себя!».
— Не искусство в себе, а себя в искусстве — вопреки Станиславскому...
— Себя, себя — это хорошая вещь!
— С молодых лет вы автомобили водить обожаете — до сих пор за рулем?
— Обязательно.
— Что за машины у вас в течение жизни были?
— Я все советские, начиная с «Москвича», прошел.
— Не с «Запорожца» все-таки...
— Нет, «Москвич» был, потому что я тогда в театре «Ленком» работал и мы с заводом дружили...
— Имени Лихачева?
— Нет, солнце мое, это АЗЛК — Автозавод имени Ленинского комсомола был: вот там первый автомобиль уже в Москве я купил. До этого у меня в Ереване был...
— Тоже «Москвич» или «мерседес»?
— «Волга».
— Неплохо для начинающего...

— Но я тут же уехал. Думал машину в Москву привезти, но передо мной проблема, где жить, встала. Мне сказали: «Здесь купить успеешь — лучше продай»...
— За 25 тысяч?
— Не-е-ет, тысяч за шесть где-то. Потом «Москвич» был, затем «Волга» 24-я: одна, вторая... Еще «Нива» была, которую у меня украли.
— А украли как?
— Угнали, после чего мне звонок от каких-то крутых ребят поступил. Они сказали: «Мы узнали, что у вас автомобиль украли, и обещаем: если за пределы Московской области он не уехал, мы его вам вернем».
— Уехал?
— Таки да (смеется).
— К иномаркам вы все-таки перешли?
— У меня друг есть — я его очень люблю: он свою RAV-4 мне дал...
— Toyota от «Волги» отличается?
— Очень сильно.
— В худшую, надеюсь, сторону?
— Боюсь, что нет (смеется) — это другая машина. Автомобили японцы, немцы, американцы отлично делают — думаю, никто, кроме них, этим заниматься не должен.
«Армянскую кухню люблю, но жить без нее могу — от пельменей тоже не откажусь»
— Когда вы за руль шикарного автомобиля садитесь, в просторном доме живете, хорошие продукты едите и вообще красоту вокруг видите, наверняка, то уродство, которое в юности вас окружало, вспоминаете. Нет у вас сожаления о том, что раньше родились, чем это убожество в прошлое ушло?
— Не знаю, но я вам проще скажу: вот в нашу жизнь пентхаусы пришли... Класс! — а когда-то анекдот ходил, что у нас в туалете унитаз не немецкий, а ненецкий. Помните?
— Нет...
— Там две жерди: одну втыкаешь — туда тулуп вешаешь, а второй волков отгоняешь, так что трудности, несовершенства в жизни, конечно, были и есть, но все равно мы вперед движемся, недостатки исправляем, что-то для человека создаем. Я за то, чтобы к лучшему мы стремились, иначе какие-то садисты мы, мазохисты, и если от бытовых неудобств удовольствие получаем, это плохо.
— От чего же вы сегодня удовольствие получаете?
— Прежде всего от театра.
— Не от кино?

— И от него тоже, но я о профессии моей говорю. Искусство — вот для меня самая большая радость, самое большое счастье!
— Все остальное вторично?
— Вторично, третично... Не знаю, разделить эти вещи нельзя. Надо, извините за выражение, в гармонии жить, что, кстати, гораздо интереснее.
— Мы уже определились, что вы чувственный, а сентиментальный? Заплакать способны?
— Плакать просто в секунду начинаю.
— От чего?
— От эмоций. Вот смотрю: ребята наши, студенты мои, «Ромео» играют — плачу, потому что они хорошие артисты и что-то важное мне, моему телу, моему организму дают.
— Фильм «Коммунист» смотрите — тоже плачете?
— Ну, тогда, когда видел, да, плакал, потому что сопереживание все равно присутствует — смотреть и одновременно в уме делить: это коммунисты, это шмателисты, а это потолисты — нельзя...
— Футуристы...
— И они тоже. Слава богу, что этого нет, — как правильно кто-то заметил: радугу делить нельзя. Да, там все части присутствуют, но цвета разделить, из которых она состоит, невозможно.
— Чем, простите, армяне от всех остальных отличаются?
— Ха-ха! (Смеется). Не знаю. Армян я люблю, по-настоящему люблю: они добрые, очень талантливые (это не значит, что все одинаково). Могу вам сказать, что на мой вкус армяне — весьма достойный народ: среди них очень много людей науки, интеллекта, и этим они мне интересны.
— Армянскую кухню вы любите?
— Да, но с ума не схожу и жить без нее могу — от пельменей, во всяком случае, тоже не откажусь...
— Что еще вы предпочитаете?
— Чего-то особенного: вот дайте, иначе сейчас умру! — нет. Если в Москву приедете, в замечательный армянский ресторан «Старый фаэтон» предложу вам сходить.
— Армяно-грузинский, наверное?
— Нет, чисто армянский, ереванский. Мы же знаем: не официанты услужливые важны, а повар хороший — вот в этом ресторане он превосходный. Я там часто бываю, тем более если кто-то ко мне приехал, так что вас приглашу, и мы обязательно в «Фаэтоне» покушаем.
— В советское время очень популярны анекдоты от армянского радио были — у вас любимый из этой серии есть?
— Тогда много очень смешных знал, но сейчас не вспомню уже — ни одного.
— Армен Борисович, если представить, что у вас 100 граммов виски налиты и у меня, допустим, тоже, какой армянский традиционный тост вы бы напоследок произнесли?
— Армяне, я уже вам признался, хороший народ — очень остроумный, очень глубокий. Боюсь ерунду какую-нибудь сказать, но есть у армян такой тост, когда «Цавет танем» тебе желают. В переводе: «Твою боль я унесу», а знаете, ответ какой потрясающий? «Без боли останься!», то есть я и себе самого хорошего желаю, и вам.
— Спасибо, Армен Борисович!

— И вам — я вас очень люблю: говорю серьезно и ответственно.
— А я вот помню: лет 30 назад, Киев, июнь, гастроли Ереванского театра имени Сундукяна — так он назывался? — Хорен Абрамян, народный артист Советского Союза. Тогда еще спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф» с Метаксией Симонян шел, и вы приехали...
— Переводчиком, да.
— Вы в наушники с армянского на русский дублировали и в одной из лож сидели — в джинсах, яркой рубашке, модный такой... Что интересно, вам больше, чем всем актерам Театра имени Сундукяна, вместе взятым, хлопали...
— Я думаю, что любовь — самое большое богатство, поэтому в душе злобу, ненависть копить не стоит. Да, если твой народ обидели, геноцид помнить надо, но... Все равно надо любить!
— И тогда геноцида не будет, правда?
— Не будет, то есть ответ этому — только любовь...
— ...на которую можно любовью ответить...
— Конечно, мое золотце!
— Спасибо вам!
— Спасибо, я вас люблю!

 Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ: «Зеленые человечки» взломали в Совмине Крыма сейфы, банкомат, опустошили холодильники и оставили записку: «Извините, такая работа»
Экс-министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ: «Зеленые человечки» взломали в Совмине Крыма сейфы, банкомат, опустошили холодильники и оставили записку: «Извините, такая работа» Экс-министр транспорта и связи Украины, экс-глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен и телеведущий Евгений ЧЕРВОНЕНКО: «Фирташу я советовал вернуться в Украину. Он много пережил, весь седой... Из-за своей ошибки расстроен, что не Кличко выбрал, а Порошенко»
Экс-министр транспорта и связи Украины, экс-глава Запорожской облгосадминистрации, бизнесмен и телеведущий Евгений ЧЕРВОНЕНКО: «Фирташу я советовал вернуться в Украину. Он много пережил, весь седой... Из-за своей ошибки расстроен, что не Кличко выбрал, а Порошенко» Писательница и журналистка Лада ЛУЗИНА: «На трассе Киев — Одесса нас с подругой могли изнасиловать и закопать, и я говорила о Вольтере, а от этого падает. Тогда же и поняла: чтобы не изнасиловали, надо трындеть»
Писательница и журналистка Лада ЛУЗИНА: «На трассе Киев — Одесса нас с подругой могли изнасиловать и закопать, и я говорила о Вольтере, а от этого падает. Тогда же и поняла: чтобы не изнасиловали, надо трындеть» Армен ДЖИГАРХАНЯН: «Никто мою дочь не убивал, и состава преступления там нет. Так случилось... Жизнь — страшная, жестокая штука, но так уж она устроена, что больше всего мы себя любим»
Армен ДЖИГАРХАНЯН: «Никто мою дочь не убивал, и состава преступления там нет. Так случилось... Жизнь — страшная, жестокая штука, но так уж она устроена, что больше всего мы себя любим» «Грабь награбленное!»
«Грабь награбленное!» Олег СЕНЦОВ: «Я не крепостной, меня нельзя передать с землей»
Олег СЕНЦОВ: «Я не крепостной, меня нельзя передать с землей» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги