«Мой костер в тумане светит...»

Сашка Свист
Я родился в Черновцах и беру на себя смелость утверждать, что именно там и есть центр Европы — в этом удивительном городе, где переплелось великое множество национальностей и культур. Мои родители прекрасно говорили на немецком и на идише, мама знала румынский, венгерский, даже древнееврейский, не говоря об украинском и русском, и в Черновцах это считалось не редкостью, а нормой — в тех еще, прежних, Черновцах, где работали юристы, знавшие право Австро-Венгрии, Румынии и Советского Союза, и где практиковали врачи, получившие образование в Париже, Вене или Кракове.
Там у каждого с детства был свой доктор, свой сапожник, свой портной, и даже газированная вода с сиропом была от мастера такого-то: у него было имя, которое нарабатывалось годами! Фамильное дело, тонкости мастерства и уважение, невероятная преданность этому делу передавались из поколения в поколение. Точно так же, как уважение к окружающим — независимо от того, какой они национальности и на каком языке говорят. Делиться на русских и евреев или на румын, цыган и еще кого-то считалось дурным тоном. Черновцы были маленькой Европой в Европе, где были собраны едва ли не все народы и обычаи, и мне безумно жаль, что советская власть разрушила и растоптала особый, веками создаваемый, мир этого города.
Когда Черновцам исполнилось 600 лет, я сделал родному городу подарок — памятник работы Зураба Церетели. Произведения этого скульптора есть и в России, и в Америке, и в Японии — я хотел, чтобы одно из них «прописалось» здесь, в городе, где учился великий Эминеску — румынский Пушкин. В городе, давшем миру великую еврейскую актрису Сиди Таль, Йозефа Шмидта, который пел в «Ла Скала». В городе, ставшем колыбелью украинской эстрады, ведь и Дмитрий Гнатюк, и Владимир Ивасюк, и Левко Дуткивский, и София Ротару, и Назарий Яремчук, и Иво Бобул, Степан Сабадаш и Василий Михайлюк — выходцы именно из этого края. Так же, как всемирно известные музыканты Аркадий Агашкин (Фельдер), Гамма Скупинский и Ефим Цимерман.
Как-то в одной из передач мне замечание сделали: «Дуже прикро, що ви, будучи родом із Чернівців, у Верховній Раді російською мовою розмовляєте». — «І мені, — ответил я, — прикро, бо як особистість я формувався за радянських часів, тому такий зросійщений. А ще більше прикро від того, що в Чернівцях тепер не почуєш усіх тих мов, якими раніше розмовляло місто. Українська є, російська є, а куди поділися німецька, румунська, угорська, чеська, єврейська?».
На подаренном мною памятнике написано: «Любимому городу» — на всех тех языках,

которые когда-то в Черновцах звучали! Ведь не только украинцы и не только русские строили этот город...
А стоит монумент в очень интересном месте: там была небольшая площадь, а за ней садик, где собирались выпить и потрепаться местные пьянчужки. Верховодил ими Сашка, у которого было две уличные клички — Свист, потому что знатно «свистел», и Сухоручка, потому что с детства одна рука у него была усохшая.
Сашка был очень красивый голубоглазый и белокурый еврей, да еще с недюжинным интеллектом: выучился на филолога, окончил Черновицкий университет... Но пил — безбожно! Другого такого пропойцы не было, и алкаши его очень уважали — за хулиганский нрав и за мозги, которые ему никак не удавалось пропить.
Зато участковый Куценко терпеть Сашку не мог. Участковый был из тех людей, которые вечно чем-то недовольны и ищут, к кому прикопаться. Однажды ему не понравилась моя компания: пацаны по 16-17 лет спокойно сидели и играли в карты, он подошел, попытался карты забрать, получил по морде, ушел... И всех нас в тот же день загребли в каталажку, под которой родители всю ночь простояли, лихорадочно соображая, что же это дети натворили и как их теперь откупить.
Но Сашку Свиста никто никуда не сажал: он был инвалид, поэтому на 15 суток его не брали, все равно ничего делать не будет, а в вытрезвитель везти тоже смысла не было, поскольку заплатить за это «удовольствие» ему было нечем: как только деньги появлялись, он их просаживал и влезал в долги. Сашка чувствовал свою безнаказанность и открыто ею пользовался: например, позволял себе всяческие насмешки в адрес явно закомплексованного участкового.
Когда в очередной раз милиционер попытался выдворить Свиста и его команду из садика, те его просто обсмеяли и довели до белого каления. «Да я тебя посажу!» — грозил он Сашке, а тот, зная, что вряд ли это случится, ему спокойно, по-философски так: «Ну и что. Кто-то сидел, кто-то сидит, кто-то будет сидеть...». — «Пошел вон отсюда, жидовская морда!» — вызверился Куценко: других аргументов, видимо, у него уже не было. «Да, — ответил Сашка, — жидовская морда. И Иисус Христос — жидовская морда. И Спиноза — жидовская морда. И Фрейд — жидовская морда. И Эйнштейн — жидовская морда. И Карл Маркс, не поверишь, тоже жидовская морда! А ты, Куценко, — участковый».
Толя-радист
Каждый музыкальный коллектив советской эпохи был status in statu — государством в государстве: там действовали свои правила, свои законы... И я уже говорил когда-то, что музыканты — это как бюстгальтер: их не видно, но они поддерживают. Как бы они к друг другу ни относились, им друг без друга нельзя: они работают вместе.
Да, отчасти правы те, кто говорит, что любая труппа или коллектив — это клубок единомышленников, где каждый пытается по чужим головам проползти, потому что артистам присущи и зависть, и эгоизм, и нереально раздутое самомнение, и постоянное чувство обиды на кого-то, и чувство превосходства по отношению к тому, кто добился меньшего в жизни, и злорадство над чужими неудачами...
У Эренбурга в его цикле мемуаров «Люди, годы, жизнь» есть хорошее выражение: «разновидность лакейского стоицизма». Так вот, это она и есть: когда человек всю жизнь жалуется, какой он несчастный, но вместе с тем готов стать еще несчастнее и упасть еще ниже, только чтобы получить звание, награду, привилегии, неважно, чем за это придется расплачиваться. Падение нравов — вплоть до предела, когда за все блага земные рассчитываются своим телом, причем как женщины, так и мужчины, — в артистической среде наблюдалось всегда. Правда, в то время оно не так повсеместно встречалось, как сейчас, и этим не кичились. Стеснялись, наверное...
И еще одна важная черта отличала мое поколение артистов и музыкантов от нынешнего: мы все-таки не ставили Золотого тельца во главу угла, особенно музыканты. Мы считали себя невероятно счастливыми людьми, потому что делаем любимое дело — выходим на сцену и играем, а нам за это еще и деньги платят!
В каждом коллективе был человек, от которого зависело все и на которого это все, в случае неудачного выступления, валили. Это так называемый радист — тон-режиссер. Если певец пел паршиво, он оправдывался, что это тон-режиссер из рук вон плохо работает со звуком, и его, звезду великую, было то слышно, то не слышно, то громко, то тихо, то глухо... В общем, получалось, что все зависело от радиста, а от горе-певца — вообще ничего.

Я дружил с одним нашим радистом — его звали Толя Егоров, и мы, когда ездили на гастроли, селились в одном номере. Были совсем еще молодыми пацанами, получали командировочные — рубль 40 в день — и тут же, дня за два-три, их тратили, потому что время полуголодное, а что такое рубль 40? Еще, помню, шутка такая ходила: «Суточные — как месячные: три дня — и нету»...
И вот однажды наш оркестр выступал в Туле, причем не в филармонии (там, кстати, легендарная филармония, где гремели оркестр Кролла, ВИА «Красные маки» и другие достойные коллективы), а в цирке, куда с зарубежных гастролей вернулся знаменитый аттракцион Вальтера и Марицы Запашных. Совсем рядом находились все эти тигры, львы, и частенько наши концерты проходили под их ужасающий рев...
Циркачи привезли с гастролей какие-то вещи, которых в Союзе было не достать: тогда все, кто был выездным, что-то из загранки везли, чтобы тут продать, даже дипломаты, это считалось обычным явлением. А в то время в моду только-только вошли рубашки-тянучки, кто-то один купил, принес, показал — другой побежал за рубашкой, третий... Наконец, я себе купил — и Толе захотелось такую же. Но рубашка стоила 25 рублей, а у него их не было: видно, каждая копейка с зарплаты, которую мы едва успели получить, была уже расписана. Зарплата, к слову, была такая, что если бы кто-то надумал предложить ее сегодняшним артистам, то они бы из артистов ушли и больше никогда не приходили: 90 рублей в месяц! Уборщица получала 70 — правда, она ни на чем не играла...
В общем, одолжил я Толе 25 рублей на рубашку. «Ян, — убеждал он, — вернусь из дому — отдам! Или еще оттуда пришлю». После гастролей мы разъезжались по домам — по всему Советскому Союзу, а потом снова съезжались — в определенный город, где должны были выступать. Но Толя в коллектив больше не вернулся. Вскоре я узнал, что он уволился. Естественно, никаких денег он мне не вернул и не выслал, и я уже думал: «Черт с ними! Пускай это будет на его совести».
С той поры прошло года два, и вдруг у нас гастроли в Кирове (бывшей Вятке), а Толя-то вятский! Я о нем вспомнил и говорю своему другу-конферансье Вадику Кокуре: «Слушай, у меня же адрес есть, давай съездим к тому засранцу, заберем деньги — и пропьем». Мы были уже подшофе, поэтому Вадик согласился моментально: «А чего ж нет? Поехали!».
Ехать пришлось аж на окраину города, где стояли совершенно деревенские, скромные такие, домики. Один из них судя по адресу Толин. Мы постучали, дверь открыла пожилая женщина: «Вам кого?». — «Анатолий Егоров здесь живет? Мы его коллеги». — «Здесь, — кивнула она, — только его сейчас нет. Я Толина мама, проходите в дом». Мы вошли — и у меня аж дух перехватило: такой нищеты, такой бедности я, выросший в очень небогатой семье, отродясь не видел! Две железные кровати, два стула, стол... Шкаф, не помню, был там или нет, возможно, чтоб и не было, потому что зачем он нужен, что туда вешать? Рубашку ту, за 25 рублей, разве что... Правда, в комнате было чистенько: бедно до жути, но убрано и аккуратно, как в аптеке.
Я посмотрел на это жилище и сказал: «Вы знаете, мы, пожалуй, пойдем. Как-нибудь в другой раз увидимся с Толей». — «Что ему передать? — спросила мама. Я вынул из кармана 25 рублей и сказал: «Передайте, что заходил Ян Табачник. Я был должен ему деньги — возьмите, пожалуйста...».
Сливяночка
В советское время не было такого понятия, как продюсер, но были великие администраторы, которые умудрялись организовывать концерты первых звезд эстрады. Самым выдающимся администратором был Эдуард Смольный — настоящая легенда, которая, я считаю, незаслуженно забыта сейчас, потому что с этим человеком работали и Магомаев, и Кобзон, и Гуляев, и Пугачева, и Дмитрий Гнатюк... Да что перечислять? Проще сказать, что не было звезды первой величины, которая бы с ним не работала.
Это вызывало дикое раздражение у таких организаций, как Росконцерт, Москонцерт, Укрконцерт, но Смольный был для них недосягаем и неуловим — так же, как для ОБХСС, гонявшегося за ним по всему Союзу. Однажды Эдуард Михалыч, правда, попал под следствие, причем на целых восемь месяцев, но в конечном итоге ничего это органам не дало. Блестящий оратор Смольный, конферансье по профессии, на суде защищал себя сам, отказавшись от услуг советских адвокатов, — и выиграл дело! Доказать что-либо против него «органам» так и не удалось, поэтому Эдуарда Смольного вынуждены были отпустить.
Он устраивал концерты на самых крупных площадках: на стадионах, во дворцах спорта — и артисты, которые участвовали в этих концертах, зарабатывали гораздо больше, чем платило им государство. Как он находил эти заработки и надбавки, рассказывать не буду: во-первых, я не штрейкбрехер своей профессии, во-вторых, просто из глубокого уважения к этому талантливейшему человеку, с которым я не только сотрудничал, но и был знаком еще задолго до его «продюсерства» — с тех еще времен, когда он работал конферансье и выступал с коллективом «Молодость». Это был блестящий джаз-оркестр Тамбовской филармонии, который ездил по всему Советскому Союзу и зарубеж и конкурировал с другим блестящим коллективом — джаз-оркестром Марка Горелика, где работал я.
Позже Смольный не раз приглашал в свои концерты меня и мою группу, за что я ему по сей день благодарен. Не только потому, что это давало возможность заработать, но и потому, что таким образом я познакомился со многими корифеями кино и эстрады: Евгением Леоновым, Борисм Андреевым, Александром Демьяненко, Владимиром Татосовым, Михаилом Пуговкиным... В числе этих артистов был и знаменитый пан Зюзя из «Кабачка «13 стульев» Зиновий Высоковский, который не единожды становился гостем моей программы. Он очень любил одесские байки и одну из них так красочно рассказал на съемках «Честь имею», что я до сих пор ее вспоминаю — в подходящих случаях.
Царское время, дореволюционное, Одесса, крупнейший зернопромышленник Бродский за обедом подавился рыбьей костью. Кость застряла у него в горле так, что он уже сознание терять начал, но, к счастью, врач жил неподалеку, его быстро привезли, и он едва ли не в последнюю минуту вытащил злополучную кость из горла миллионера. «Доктор, — радовался Бродский, — вы спасли мне жизнь! Скажите, сколько я вам должен?». — «Вы знаете, — ответил врач, — заплатите мне столько, сколько вы были готовы мне заплатить, когда эта кость еще была у вас в горле...».
Так вот, пан Зюзя, он же Зиновий Высоковский, он же Зяма (для друзей), тоже не отказывался от участия в концертах, которые организовывал Смольный. Однажды, собрав своих администраторов, великий советский продюсер сказал: «Приезжает Высоковский, я обсуждал с ним количество выступлений. Он говорит: «Меня не интересует, сколько будет концертов в день: два, пять или 10, я должен за день зарабатывать тысячу рублей!». Вам все понятно?».
По тем временам это были большие деньги: хороший артист получал в месяц около трехсот рублей зарплаты, а тут тысяча! Ну, тысяча так тысяча, хозяин — барин.
Сборные концерты, в которых выступали и Высоковский, и другие звезды, и я с коллективом, были по вечерам, а до этого Зяму так загрузили, что в восемь утра у него начиналось выступление на Главпочтамте, в 10 — в быткомбинате, в 12 — в тресте столовых и ресторанов... Короче говоря, к вечеру артист был готов и кричал: «Все, больше никаких концертов!». Но обязательства есть обязательства — на сцену он, разумеется, по вечерам выходил и работал.
А после концерта что делать? В гостиницу мы возвращались к полуночи, ресторан закрыт, посидеть негде, и никто к тебе особо не придет, потому что гостиницы в то время не зря называли «фешенебельной тюрьмой»: после 12-ти посторонних туда не пускали, так что если кто-то из друзей или знакомых хотел прийти к тебе, чтобы послеконцертное напряжение помочь снять, он просто не мог этого сделать.
Иду по коридору — навстречу Зяма. Спрашиваю: «У тебя бухнуть есть?». А он: «А у тебя пожрать найдется?». — «Да, — говорю, — есть хлебушек, колбаски кусок...». — «Отлично! Сливяночку будешь?». — «А чего ж нет?». — «Тогда бери свою закусь и приходи ко мне в номер».
Ну, побежал я к себе, взял хлеб с колбасой, понес к нему... Захожу — сидит за столом Высоковский, а на столе стоит бутылка «Столичной», на три четверти полная. «Зяма, — говорю, — это же обычная водка! Где сливяночка?». — «Да вот же! Это и есть сливяночка: я у швейцара купил, он в ресторане из недопитых рюмок сливал...».
Родина за 150 долларов
Попасть в капиталистическую страну, тем более такую, как Австрия, в 86-м году было сродни фантастике. Если кто-кто куда-то выезжал, потом, после возвращения, у него собиралась целая компания — расспрашивать: «А что там, а как там?». Всем хотелось знать, как живут в других странах люди, как они в принципе должны жить...
Я до этого уже бывал за границей: в Польше, Румынии, Финляндии... Но в Финляндии наш коллектив пробыл всего два дня (в 60-е годы нас просто обменяли на финский ансамбль в рамках празднования юбилея советской власти), а поездка в Австрию была длительной — целая делегация ехала туда с так называемым визитом дружбы по линии общества «Австрия —СССР».
Кого в той делегации только не было: и колхозники, и ткачихи, и поварихи, и мы, артисты тогда уже Запорожской филармонии, и художники, и писатели, и секретари Запорожского обкома, горкома, исполкома... И стукачи, которые обязаны были фиксировать, кто что сказал о советской власти, кто куда ходил и общался ли с местным населением, естественно, тоже были: без них ни одна делегация за границу не выезжала.
Как музыкант я прекрасно понимал, что успех у меня будет и австрийцы обратят на меня свое внимание, потому что Австрия — аккордеонная страна. Причем очень стойкая в этом плане: там как любили аккордеон, так и любят, и никакие новые веяния, никакая американская попса, под натиском которой пали все страны Восточной Европы и мы в том числе, ничего не изменили. В отличие от нас, начавших обезьянничать в музыке и косить то под россиян, то под американцев, старая Европа не пустила на свой рынок никого! Австрийцы любят слушать австрийское (ну, пускай еще немецкое), французы — французское, итальянцы — итальянское... Мы же сдали все и пропустили всех, безоговорочно поверив, что у кого-то другого и музыка лучше, и мозгов больше, и люди талантливее...
А австрийцы как любили, так и любят свои лендлеры, польки, вальсы — и, к счастью, я, родившийся в Черновцах, которые очень хорошо помнили времена Австро-Венгрии, умел все это играть! Мы выступали в Вене, Зальцбурге, Линце, и всюду были овации — даже в старшей музыкальной школе (так у них называют высшие музыкальные училища), где на концерте присутствовали очень профессиональные музыканты. А когда мою игру услышал в то время вице-канцлер Австрии Франц Добуш, он вообще всю нашу делегацию отодвинул и общался только со мной.
Когда я заговорил по-немецки, он удивился: «Слушайте, да вы же говорите, как шваб! Откуда вы?». — «Из Черновцов». — «И родители оттуда?». — «Да». — «Так вы же австриец! Тогда мне все понятно: и про немецкий язык, и про такое знание нашей музыки...».
К слову, у нас там был переводчик — пожилой австриец Эмиль, который очень хорошо знал русский язык. Говорил, это потому, что он его преподает, но судя по его почтенному возрасту можно было предположить и другое: он наверняка бывал в Советском Союзе, и не надо быть академиком, чтобы понимать, когда и с какой целью...
В беседе с Добушем мне переводчик был не нужен: за меня все сказал аккордеон. До сих пор храню благодарственное письмо от вице-канцлера Австрии, в котором он признался, что моя игра его просто потрясла. Это письмо, кстати, очень помогло мне, когда ехал в первый раз на гастроли в Америку: из него стало понятно и американцам, какие артисты у них будут выступать...
Австрийцы, чтобы сделать что-то приятное нашей делегации, придумали культурную программу — решили сводить нас на эротический фильм. Ну, мы, богема, это все уже видели: и в журнальчиках, которые кто-то привозил из-за границы, и во время других поездок — поэтому сели в первый ряд, чтобы не на экран смотреть, на наших ткачих-поварих-сталеваров во время просмотра. И как только сели, за спиной сразу послышалось возмущенное: «Коне-е-ечно! Они ж артисты, им же интересно!».
Но когда на экране начала появляться обнаженка, до них дошло, наконец, зачем нам был нужен этот первый ряд: мы все как один развернулись, чтобы смотреть не на экран, а на них! И видеть реакцию этих забитых «совков», которые плевались во все стороны: «Фу, срамота! Развратные капиталисты!» — и тому подобное. Это они смотрели эротику, мы же смотрели комедию, а может, даже трагикомедию.
Такая же хохма была, когда нас натуральной анисовой водкой угощали — местного производства. «Шо це? — спрашивали советские женщины, ударницы труда. — Це якийсь самогон, я його пить не буду!». А я спокойно опрокидывал, и голова не болела, потому что самогон самогону рознь.
Нетрудно догадаться, кем мы выглядели в глазах австрийцев, — это, кстати, к вопросу о том, почему Европа нам не особо доверяет. Потому что в их сознании мы все те же полудикие, забитые, затравленные агрессивные «совки», какими были в 80-е годы, и попробуй их переубеди...
Из людей искусства в делегации был не один я, но если мной австрийцы заинтересовались, то на других обращали внимание постольку поскольку. Рядом со мной жил прекрасный художник из Запорожья — Виктор Заруба. Он привез в Австрию свои картины и надеялся, что там их по достоинству оценят: «Ну, хоть тут покажу, что я рисую, а то приносишь в обком пейзаж, а тебе с порога: «Это не то, Днепрогэс рисуй!». Задолбали уже своим Днепрогэсом!».

Гляжу, пришел Витя после первого дня выставки какой-то невеселый. Спрашиваю: «Ну как?». Он рукой махнул: «А! Никак. Нету никого, и не знаю, как привлечь». И тут меня осенило: «Давай я возьму аккордеон и буду играть — может, подействует?». Заруба ухватился за эту идею моментально, как за спасительную соломинку: «А что? Давай! И ты знаешь, Ян, если удастся продать картину — бабки пополам!».
Привлекли мы посетителей, пошли они смотреть «советское искусство» — и австрийцы купили у Вити картину! Естественно, не Днепрогэс, а красивый украинский пейзаж, до сих пор помню название — «Ночь на мельнице». Заплатили пять тысяч шиллингов, для нас это были большие деньги, и мы, улучив момент, тут же побежали в магазин и купили себе магнитофоны-двухкассетники: там они стоили примерно 150 долларов, в Союзе же, во-первых, две с половиной-три тысячи, а это половина «Жигулей», во-вторых, попробуй еще найди...
Принесли в гостиницу эти огромные коробки, сели, смотрим на них и думаем: что говорить, если спросят, где мы взяли деньги? «Ян, — чуть не плачет Витя, — если кто-то узнает, что я продал картину, не видать мне Союза художников как собственных ушей!». Я предложил «легенду», будто бы это я, стоя на улице, у входа в выставочный зал, «наиграл». Люди подходили, давали там что-то, откуда я знаю, что они мне суют, если я весь в музыке? «Легенда» была слабовата, но так-сяк сойти за правду могла, а вот что с недостающей картиной делать? Сколько привезли, столько же и обратно везти нужно!
На оставшиеся от покупки магнитофонов деньги мы купили ватман и акварельные краски. На кисточки не хватило: они оказались дороже наших двухкассетников. Витя вынужден был прикрепить этот ватман к двери гостиничного номера и рисовать на нем свою «Ночь на мельнице»... моими помазками для бритья! Ругаясь при этом так, что вяли уши, потому что помазок — не кисточка, акварель — не масло, а лист бумаги — далеко не холст, все растекалось, плыло, и можно себе представить, какой из этого вышел авангардный шедевр и что бы с нами было, если бы кто-то надумал его развернуть...
К счастью, этого не произошло, мы благополучно долетели на Родину и с магнитофонами, и с картинами, но на нас — уже в Союзе — кто-то таки стуканул. Возможно, из тех, кто в аэропорту так завистливо смотрел на наши коробки, что мы думали, они от этих взглядов загорятся. И в Запорожской филармонии меня в коридоре останавливает уборщица: «Ян Петрович, вас директор искал...». — «Хорошо, — говорю, — зайду».
Захожу к директору, а там два мужичка в штатском: «Здравствуйте, Ян Петрович! Мы из госбезопасности...». «Все, — думаю, — сейчас придется что-то выдумывать на ходу». «Мы в курсе, Ян Петрович, что вы с Виктором Зарубой успешно съездили в Австрию в составе делегации...». «Еще бы, — думаю, — вы не были в курсе!». «Вы же понимаете, что такое Австрия? — продолжили «гости» (а директор, кстати, сразу же вышел, как только я вошел, видимо, не хотел мешать «допросу»). — Австрия — это страна, где есть представительства всех мировых разведок!».
Лекция, как я и предполагал, закончилась вопросом: «Где вы взяли деньги?». И намеком: а не продали ли вы там случайно Родину... «Товарищи, ну какие разведки? — недоумевал я. — Я и товарищ Заруба — честные советские граждане, мы шли по улице, увидели, что там на каждом углу играют музыканты — и австрийцы, и немцы, и итальянцы... А советской музыки нет! Но ведь это же несправедливо, мы решили показать им, что такое советская музыка, я взял аккордеон и тоже стал играть. И, вы знаете, наши мелодии людям понравились, они подходили, как оказалось, давали деньги...». — «Подождите! — перебил меня один из гэбэшников. — Вы что там, милостыню просили?». — «Ну как я мог просить милостыню, если обе руки были заняты игрой на инструменте? — возразил я. — Эти люди подходили и совали что-то мне в карман, откуда я знаю, что это — купюры или открытки с благодарностью? И потом, не гоняться же мне за ними с аккордеоном, чтобы это вернуть...».
Артур Браунер
В 1989 году, когда рухнула Берлинская стена, нас пригласили на гастроли в Западную Германию. Мы, первые ласточки, которых туда позвали, везли с собой всю аппаратуру, специально для этого выкупили два купе... Ну, «совки», одним словом: не знали, что все это можно не тащить на себе, а взять напрокат на месте, такого слова, как «райдер», у нас не было и в помине, тем более не было понятия, что этот самый райдер бывает технический и бытовой... Оборудование привезем свое, куда поселите, за то и спасибо. А с другой стороны, мы ведь экономили деньги. Когда нам в Союзе поменяли рубли на марки, мы были просто счастливы, а когда узнали, что еще и в Германии марки получим, вообще посчитали себя богатыми людьми...
Прибыли мы в Берлин, поселились в гостинице, не пяти- и не четырехзвездочной, а обычной «троечке», и в тот же вечер познакомились с куратором гастролей Феликсом Рохбергом: теперь он мой хороший друг, с которым я довольно часто общаюсь, а тогда мы смотрели на него, как на нечто из другого мира. «Как? Это миллионер? Настоящий?!». У себя в Союзе мы, конечно, слышали, что где-то на загнивающем Западе водятся миллионеры и даже миллиардеры, но, естественно, никогда их не видели и терялись в догадках, как же они выглядят. Оказалось, вполне нормальный парень: встретил, поужинать пригласил, все чин по чину...
Разумеется, будучи на гастролях, мы нашли время, чтобы посмотреть на знаменитую Берлинскую стену, которую как раз рушили, ломали, разбирали... Я взял себе кусочек на память — правда, уже не знаю, куда его подевал, но тогда относился к нему как к исторической реликвии, символу перемен и больших надежд.
Я, кстати, много таких моментов застал — когда люди ожидали, что вот-вот в мире что-то изменится. Отчетливо помню день, когда умер Сталин. Мне было восемь лет, мы с мамой в Черновцах шли по улице, а навстречу шла женщина — видная такая, яркая блондинка с красными напомаженными губами. И тут какой-то мужик начал грубо ее отчитывать: «Проститутка! Отец народов умер, а ты губы накрасила?!». Женщина остановилась как вкопанная, достала из сумки носовой платочек, вытерла губы — и молча пошла дальше...
День, когда сняли Хрущева, я тоже запомнил. Мы с моим другом Рудиком Богдановичем находились в Судаке: там как раз открыли новый санаторий для железнодорожников, нас пригласили приехать из Черновцов и в том санатории выступить. И когда утром по радио объявили, что «товарищ Хрущев был снят с поста», я начал играть туш, а Рудик в испуге замахал руками и закричал: «Прекрати немедленно, ты ведь не знаешь, за что его сняли!».
Примерно та же история с Германией: и сами немцы, и те, кто застал, как разбирали стену, ожидали, что сейчас все пойдет по-новому, но очень долго еще не шло. Между западными немцами и восточными, которые долгое время находились под Советским Союзом, постоянно возникали трения, и понадобились два десятилетия, чтобы эти трения поутихли и в итоге получился единый сплоченный народ.
Я еще 17 раз приезжал в Германию на гастроли и знаю, как долго и упорно эти люди боролись со своим прошлым и с тем, что менталитеты у жителей Западной и Восточной Германии все-таки разные, во многом не сходятся. В Восточной, к примеру, был антисемитизм, а в Западной его не было абсолютно, потому что там люди чувствовали свою вину перед евреями, пытались ее всячески загладить, и еврейская община, которую возглавлял человек по фамилии Галинский, пользовалась большим влиянием в обществе. Ее глава запросто заходил в кабинет канцлера и решал вопросы государственной важности.
Мы выступали в зале Gemeinde — этой самой общины, где собирались представители всех еврейских лож, существовавших в Германии. Зал очень известный, элитный, и освещением сцены занимался еще один Феликс — латышский еврей, который был и осветителем, и комендантом, и немного режиссером, и потому возомнил себя чуть ли не Пурицем. Во всяком случае, когда я на репетиции, стоя на сцене, начал подсказывать, какой прожектор куда направлять, он по-хамски меня перебил: «У себя дома будешь командовать!». — «А ты — у себя дома? — поинтересовался я. — С каких это пор твой дом — Германия?». Меня всегда поражали пафосные эмигранты, которые, стоило им вырваться из Союза куда-нибудь на ПМЖ, тут же начинали считать себя людьми высшего сорта, а тех, кто остался, — второго, третьего... Ну, выехал — и живи. В конце концов, иногда проще уехать, чем остаться...
Меня предупредили, что на концерт (сначала, кстати, предполагалось, что он будет один, но потом добавили еще два — спрос на мою группу «Новый день» в Германии оказался очень велик) придет один из богатейших людей Берлина — миллиардер, кинопродюсер Артур Браунер. Я, кстати, потом смотрел его фильмы и знаю, что один из недавних — как раз о киевской трагедии, о массовом уничтожении евреев в Бабьем Яре.
Но в зале для меня все равны, я не делю публику на тех, кто богаче, и бедных, там все — зрители. «Хорошо, — сказал я, — пускай приходит».
Концерт начался, люди слушали очень внимательно, кто-то сиял довольной улыбкой, у кого-то слезы в глазах блестели... А один солидный мужчина пригласил какую-то даму — и начал с ней танцевать! Честно говоря, не люблю я этого кружения-мельтешения, потому что когда по залу кто-то движется, это отвлекает, на сцену уже никто не смотрит — наблюдают за танцующими. Мне дали понять: мужчина — это сам Артур Браунер, так что ты, мол, сильно не выступай — танцует, и пускай. Но что делать с теми зрителями, которые пришли спокойно посидеть и послушать музыку?
Не вытерпел я: такой, наверное, характер. «Уважаемые зрители, — обратился к собравшимся в зале, — если вы хотите потанцевать, можете остаться после концерта — и мы поиграем вам танцы: мы очень хорошо это делаем, поверьте, у нас в этом вопросе большой опыт. А сейчас очень прошу: послушайте концертную программу и дайте возможность другим доиграть и дослушать. Не знаю, почему, но мне кажется, что стать миллиардером в Западном Берлине еврею немного проще, чем в Советском Союзе — заслуженным артистом, поэтому давайте уважать друг друга!».
Браунер прекрасно понял, на кого я намекаю, но ничуть не обиделся — наоборот, остался после концерта и еще минут 20 слушал румынские мелодии, которые, как выяснилось, очень любит. И уже не танцевал — придвинул кресло ближе к сцене и наслаждался тем, как я играю. А потом стоя аплодировал и кричал: «Браво!»...
Мой самый дорогой концерт
...В Нью-Йорке у нас была небольшая передышка — перед дальнейшим долгим маршрутом. Ведь впереди нас ждали Бостон, Чикаго, Балтимор... И вот нашему импресарио поступило предложение организовать выступление в доме престарелых. «Там немало выходцев из Советского Союза, — сказал он, — и вас, Ян Петрович, они знают и любят».
Сразу объясню, что дом престарелых в Америке — вовсе не жуткая богадельня для немощных и брошенных, как в наших краях. Это довольно-таки уютное место со всеми удобствами, где коротают свои дни не нищие и не бездомные-безродные, а пожилые люди среднего класса, у которых либо не осталось родственников и они завещали государству квартиры, либо же им просто не хочется однообразной скучной старости: здесь все-таки и общение, и развлекательная программа, и уход, и медпомощь...
Естественно, билеты стоили недорого, но нам очень хотелось сделать что-то хорошее для пожилых людей, да и, честно говоря, те копейки были совсем не лишними. Словом, я решил совместить приятное с полезным, и зрители нам так радовались, что это на лицах читалось — с таким умилением и с такой щемящей ностальгией во взгляде слушали они аккордеон, что хотелось к каждому подойти и обнять.
Но был один момент, который едва не вывел меня из себя: весь концерт по залу шастали две бабульки. Знаю, женщинам слово «бабулька» не нравится, но я считаю, это самое лучшее, самое почетное звание, которое можно заслужить, ведь бабулька — это женщина, у которой есть и дети, и внуки и которая посвятила им жизнь, воспитала, вложила в них всю свою любовь. Так вот, я играю, а две бабульки — туда-сюда, туда-сюда! Ну что ты будешь делать?
Обычно в таких случаях, когда зритель занят чем попало и на артиста ноль внимания, я отвязываюсь и прямо со сцены спрашиваю, почему человеку на месте не сидится и что он, собственно, на концерте забыл, но тут промолчал: все-таки пожилые люди. И потом, это я у них в гостях, а не они у меня, начну возмущаться — вдруг скажут: «Слышь, ты приехал нас жизни учить?».
Я терпел, старался в зал не смотреть, движения не замечать... А после концерта беспокойные бабульки вышли на сцену со словами: «Вы знаете, нам так понравилось выступление, что мы решили пройтись по залу и вам еще по доллару собрать».
Это был самый дорогой концерт в моей жизни, ведь однодолларовые купюры в доме престарелых куда дороже тех сотен и тысяч, которые выкладывают за билеты богатые люди.
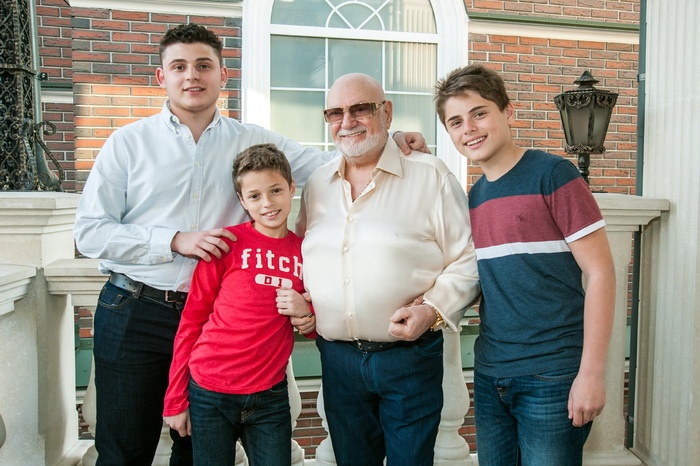
Такие же, как мы
В 99-м у меня был большой тур по украинским зонам. Эта идея пришла мне в голову неожиданно, когда Леонид Кучма попросил меня поддержать его в президентской кампании. Тогда только входили в моду предвыборные кампании с участием артистов, я согласился и никогда об этом не пожалел. Если бы поехал играть на стадионах и концертных площадках, никто бы не поверил, что делаю это бесплатно, поэтому я решил: стану первым, кто выступит в зонах, для людей, которые находятся в местах лишения свободы.
В жизни этой страны я всегда участвовал. И этой, нынешней, и той, прошлой, которая называлась СССР. Я награжден за сотрудничество с Фондом мира, за БАМ и Чернобыль, у меня есть грамота министра сельского хозяйства СССР за выступления для колхозников на целине, грамота министра обороны за концерты для воинов Советской Армии и Военно-морского флота... Теперь это называется благотворительностью, раньше называлось шефской работой, и за эту шефскую работу я с удовольствием брался, потому что во всем мире все большие артисты этим занимаются, причем охотно и совершенно бескорыстно, не надеясь на спасибо.
...Буквально на десятой зоне я осознал, куда попал. Это вам не воинская часть и далеко не сельский клуб на целине, это место концентрации невероятного человеческого напряжения, где каждый замкнут в себе и зациклен на своих проблемах, где несправедливости столько, что трудно себе даже представить. Я узнал, что процентов 30-40 заключенных могли бы и не сидеть, сами начальники колоний говорили: «Ян Петрович, это не преступники, то, что они сейчас на зоне, — результат несовершенства нашей судебной системы». «Я бы взял треть из тех, кто у нас отбывает срок, и поселился вместе с ними и своей семьей на необитаемом острове!» — убеждал начальник симферопольского управления пенитенциарной системы.
Мне довелось видеть людей, которые сели за ящик воды минеральной, за канистру бензина... Молодой человек, 20-летний, украл эту несчастную канистру, но надо ли было его сажать? Есть же административное наказание, как в цивилизованных странах!
У одного мужика в колонии строгого режима я спросил: «За что вас?». А он: «Ян Петрович, стыдно признаваться...». — «Ну, расскажите, мне интересно». — «За мешок картошки». — «Так это вторая судимость, а в первый раз?». — «Украл с бахчи колхозной несколько арбузов».
Я переспросил у начальника зоны, правда ли это, тот подтвердил, что да, так и есть. И плечами пожал: мол, нам-то что? Не мы сажали, мы только стережем. А мужик никак понять не мог: «Ну за что меня сюда? Вы видели, какие у нас убитые дороги? Лучше бы таких, как я, отправили их ремонтировать, а то сидим тут, харчи государственные прожираем!».
И другой случай: попали люди в тюрьму за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Как думаете, что это было? Нет, не убийство. И даже не грабеж. Ехали хлопцы с охоты — неудачной, не подстрелили никого. Смотрят: на краю села стоит привязанный баран. Ну, эта «группа лиц» его убила, шашлыков нажарила, а хозяин отказался компенсацию взять, так ему этот баран был дорог...
Подобных историй — о глупости человеческой, нелепых ошибках из серии «нарочно не придумаешь» и несовершенстве правосудия — я наслушался много: 80 часов разговоров из тура привез, где были не только беседы с заключенными, но и с охранниками, начальниками зоны... Сначала думал, отдам в какую-то передачу, пускай журналисты покажут, как люди за решеткой живут, чем питаются, в чем ходят, о чем думают, на что надеются. Но когда оказалось, что журналистам это все до лампочки, а интересно то, как зэки свои сексуальные потребности удовлетворяют и водят ли к ним проституток, решил: пусть лучше пропадает запись, чем станет частью какой-то грязной инсинуации, пускай ни слова оттуда не выйдет в СМИ, чем выйдет в исковерканном, испохабленном, перевранном виде. Нельзя этим людям в лицо плевать: они такие же точно, как мы, просто кого-то дернул черт полезть в бахчу или позариться на барана, а кого-то нет. Пока нет...
В одной женской зоне ко мне подошла заключенная: «Ян Петрович, а вы и в детских колониях выступаете?». — «Да, — говорю, — как раз в такую еду — на Тернопольщину, в Бережаны». У нее аж глаза загорелись: «Ой, у меня сын там! Отца нету, я, видите, как попала, ребенок беспризорником остался, теперь в колонии... Вы не могли бы передать ему хоть какую-то передачку? Родных нет, он ни от кого ничего не получает... И еще обязательно скажите тем детям, что ничего хорошего на взрослой зоне нет, чтобы, выйдя из детской, они забыли о блатной романтике и никогда сюда не попадали!».
Я записал имя-фамилию ее сына, собрал передачу, а потом думаю: подожди, а другим детям ведь тоже нужно что-то привезти! Узнал у начальника управления, что в той колонии 300 пацанов, купил им всем летние майки (это летом было), белье и каждому по плитке шоколада и по пачке вафель. «Это же дети, — сказал мне начальник, — а все дети любят сладости. Вот только где нам средств набраться, чтобы их покупать?». Ну, я все понял, сладости привез, но как сделать так, чтобы старшие, которые строят из себя крутых, не отобрали у младших?
Решение нашлось. Перед тем как начать выступление, я обратился к ребятам: «Вы знаете, у каждого из вас есть шанс навсегда забыть о месте, где мы с вами сегодня встретились. Стать хорошим инженером, врачом, офицером — кем угодно. И я вас очень прошу: почаще думайте об этом, а не о блатной романтике, и все у вас получится. А сейчас пускай каждый из вас подойдет, возьмет пачку вафель и плитку шоколада, и чтобы за время концерта, при мне, вы все это съели. Не надо аплодировать — ешьте и не стесняйтесь, договорились?».
Все время, пока я играл, они тихо сидели и жевали сладости. Это был единственный концерт в моей жизни, когда я не слышал бурных аплодисментов.
Аккордеон из снега
...Лето было ужасно жаркое, настолько, что мы с коллективом даже фильм хотели сделать об этом туре и назвать «Жаркое лето 99-го». Туда обязательно вошел бы эпизод из зоны, где заключенные слушали нас на плацу в 40-градусном пекле. С непокрытыми головами — так положено. Я не мог на это смотреть спокойно: над сценой, где мы выступали, был навес, а они как? Попросил начальника зоны: «Пожалуйста, пускай зрители наденут головные уборы, иначе у них будут тепловые удары» — и он разрешил.
А людей на плацу было полно, вся зона! И везде, куда бы мы ни приехали, было именно так. Начальник одной зоны признался: «Вы знаете, Ян Петрович, до вас у нас женский вокально-инструментальный ансамбль выступал. Казалось бы, что для зэков может быть лучше, чем девчата — красивые, статные? А посмотреть пришло человек 40 — из двух с половиной тысяч. Заставить мы не можем: заключенные очень хорошо знают свои права, не зря говорят, что нет лучших знатоков законов, чем те, кто их нарушал... Так вот, ансамбль собрал 40 зрителей, а на ваш концерт пришли все до единого!».
Я догадывался, почему так. Зэки, у которых есть своя, особая, зоновская почта, знали: я приехал не за деньги. К тому же от одной колонии к другой шел слух: Ян Табачник беседует с заключенными, узнает, кто за что сидит, тем, у кого статья легкая, обещает добиться амнистии, а невинно осужденным — оправдания и освобождения. И я сдержал слово: в конце года Президент Кучма подписал указ об амнистии, и люди, которые не должны были находиться за решеткой, вышли оттуда. Некоторым я прямо говорил: «К Новому году будешь дома. Вот мой номер телефона, из дому перезвонишь». И перезванивали! И письма писали — со словами благодарности.
Меня часто спрашивают: «А вы не боялись, что зэки могут взять вас в заложники или попросту напасть на вас?». На что я всегда отвечаю: «У этих людей есть свой кодекс чести, и его они соблюдают получше тех многих, которые на свободе».

В том, что это правда и что заключенные очень ценят добро, я убеждался не раз, но один случай особенно глубоко врезался в память. Было это в Харькове, и уже не летом, а поздней осенью — в ноябре. Несколько зон, в том числе харьковская, в тур не вошли, и я решил, что нехорошо как-то получается: у одних побывали, к другим не успели... Приехал с коллективом в Харьков, но как раз накануне концерта в колонии мне позвонил секретарь СНБО Владимир Горбулин: «Ян Петрович, ты далеко?». — «Да в Харькове, а что?». — «Садись в машину — ты мне завтра в 9.00 нужен в Киеве». Что делать? Пришлось возвращаться, и выступали артисты в тот раз уже без меня.
А когда я, решив свои вопросы, снова к ним присоединился, услышал то, что потрясло меня до глубины души: «Как они вас ждали! Вы себе не представляете, они аккордеон из снега слепили — два метра высотой! Снег только-только выпал, его было немного, и заключенные собирали его с крыш, с крыльца... А чтобы аккордеон, не дай Бог, не растаял, его постоянно поливали водой. Даже ночью дежурили ради этого. Так жалко, что вас не было...».
Назавтра мы должны были ехать в другое место, но эта история — про заключенных, которые ползали по крышам бараков, чтобы собрать первый снег и слепить двухметровый аккордеон, — не давала мне покоя. «Мы меняем маршрут, — сказал я начальнику областного управления пенитенциарной службы. — Даем в Харькове еще один концерт». — «Как еще один? — удивился он. — Вас в другом месте ждут...». — «Так, как там, нигде не ждут! Раз они так меня ждали, я к ним еду!».
Я застал тот аккордеон из снега: то ли погода не дала ему растаять, то ли заключенные все же верили, что приеду, и не переставали поливать водой, не знаю, но я увидел своими глазами эту снежную скульптуру и даже сфотографировался с ней. На память. Хотя запомнил бы на всю жизнь и без фото. Я очень счастливый артист: имею много наград — и государственных, и общественных. Но тот снежный аккордеон — самая дорогая моя награда, потому что делали его специально для меня и в том месте, где далеко не до аккордеона...
Шкура белого медведя
Каждый человек хочет, чтобы его уважали и ценили как профессионала и чтобы добрая слава о нем приумножалась и распространялась. К примеру, в такой-то больнице работает врач. Он не профессор, не доктор наук — он просто доктор, знающий, умный, порядочный. И этого вполне достаточно, чтобы люди, которым он как врач помог, советовали его другим.
То же самое, когда вы ведете ребенка в школу, в первый класс. Вы ведь наводите справки, к какой учительнице его лучше отдать? И вам советуют: «Ой, к этой не надо, она на детей ноль внимания, а вон та к каждому ребенку найдет подход». С портными еще легче. Услышали «рекомендацию»: «У него руки из жопы!» — и пропало желание шить у такого «мастера». Правда, сейчас они все уже не портные, а стилисты, модельеры, кутюрье...
А теперь спрошу: чем все эти люди — врач, учитель, портной, слесарь, сантехник, да кто угодно — отличаются от артистов? Пожалуй, только тем, что никому из них, чтобы стать уважаемым и популярным, не нужен продюсер. А у нынешнего артиста, даже самого захудалого, он есть. Смотришь и диву даешься: как мы раньше-то без продюсеров жили? Как я 50 с лишним лет на профессиональной эстраде проработал — и даже мысли не было, чтобы его завести? Жена моя певица Таня Недельская тоже без продюсера работает — и ничего. Пишет стихи, музыку, записывает новые песни...
Кстати, когда кого-то на нашей эстраде представляют как успешного продюсера, это вызывает у меня, как минимум, улыбку, потому что успешный продюсер — это человек, который может из никому не известного певца или музыканта вылепить звезду мирового уровня. А наши в основном местечковые, и вся их успешность в том, что они вовремя прилепились к талантливым людям, которые и без их помощи что-то значили. Примазались — и работают чем-то средним между официантом и сутенером: с важным видом отвечают на звонки и решают, куда и за какие бабки подать «звезду» своей звезды.
У меня есть особый термин для их обозначения — «хранитель м...ды». Это и есть та первая ассоциация, которая возникает, когда слышу о ком-то, что он «успешный отечественный продюсер». Правда, есть и исключения — люди, которые действительно состоялись как музыкальные продюсеры. Это и Игорь Крутой, и Константин Меладзе, и Игорь Матвиенко, великим продюсером был в свое время Пинкус Фалик. Но я сейчас не о них, а о тех, кто до такого уровня в жизни не дорастет.
Один «хранитель» долгое время пытался всунуть свою подопечную жену («хранители» часто вступают в брак с тем, что они охраняют) ко мне в программу «Честь имею пригласить». А у меня все расписано, с каналом согласовано, и даже если бы я ее выпустил, номер бы вырезали, потому что эфирное время рассчитано по секундам. Я об этом честно ему сказал: не могу, не получится. Но продюсер — это же всегда проныра, и он решил с другой стороны зайти — поискать общих знакомых, которые могли бы за них попросить.
Такой знакомый, очень состоятельный бизнесмен, нашелся. «Ян, — предложил он, — давай так: я тебе даю 10 тыщ долларов — и ты берешь ее в программу». — «Нет, — говорю, — не надо мне твоих денег». — «Ну что, тебе жалко за десятку баксов лишний стул поставить?». — «Знаешь, Валера, — ответил я, — стул можно поставить под жопу, а под честь, увы, стул не поставишь». Больше разговоров о той артистке между нами не было.
20 лет я создавал программу, куда нельзя было попасть, заплатив бабки, — пожалуй, единственную такую на всем украинском телевидении, и ни один «хранитель» не может похвастаться, что платил Яну Табачнику за появление артистки, жены, любовницы, любовника или еще кого-то на экране. В «Честь имею пригласить» участвовали только те, кого я считал нужным позвать в гости, и этим я горжусь. Ни за один выпуск и ни за одного артиста, выступавшего у меня, мне не стыдно, местами в своей программе я никогда не торговал, а если кто-то и тявкнет что-нибудь в сторону «Честь имею»... Ну и пускай тявкают, могут ведь еще и ножку задрать...
Недавно мы с приятелями, известными успешными людьми, сидели у меня в гостиной, где на полу лежит шикарная шкура белого медведя — фабричной выделки, со всеми клеймами, не какая-нибудь «левая», контрафактная, а настоящая, фирменная. И вот пока мы общались, вся мелюзга, которая была у нас в доме: собачка наша, той-терьер Чита, две кошки, собачка наших гостей, тоже мелкая, комнатная — прибежали, чтобы на эту шкуру поссать! Каждому из них надо было попасть непременно в гостиную, и непременно публично, показательно сделать свое дело на шкуру красивейшего благородного животного, самого большого хищного млекопитающего в мире!
Я сидел, смотрел, думал об этом красавце-медведе, который когда-то ходил у себя на Севере, как полноправный властелин, и которого никто не смел тронуть, и мне было искренне его жаль. И всех нас тоже, ведь мы понятия не имеем, что будет с нашей «шкурой», когда нас не станет!
Конечно, даже если ты большой, сильный, могущественный, надо стараться жить так, чтобы ни одна шавка не ссала потом на твою могилу. Но, наверное, ко всему нужно относиться по-философски: шавки всегда были, есть и будут, и их естественные потребности никто не отменял. Главное — что ты при жизни был не шавкой, а все-таки БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ!..

Искорка жизни
Давным-давно один еврей сказал, что все от Бога. Его звали Моисей.
Прошли столетия, и второй еврей стал утверждать, что все от сердца, от души. Это был Иисус.
Третий еврей, Спиноза, говорил, что главное — это разум, и именно он правит миром. Четвертый еврей, Маркс, решил убедить мир, что главное — все-таки карман, и должен признать, у него это тоже получилось.
Пятый еврей был куда более оригинальным: предположил, что главное — то,что у человека ниже пояса, и именно это предопределяет все наши поступки. И как ты к Фрейду и его теории ни относись, а порой посмотришь на некоторых людей — и понимаешь: живут они действительно по Фрейду. Куда один орган, туда и остальные...
А шестой еврей, Эйнштейн, в детстве был плохим учеником, из которого, как считали взрослые, вряд ли выйдет что-либо стоящее внимания, но в итоге стал величайшим ученым. Видимо, потому и пришел к выводу, что все в этом мире относительно.
Каждый из нас проживает жизнь по-своему, но приходим и уходим мы все одинаково — ничего при себе не имея. И мне кажется, что когда в этом мире становится на одного маленького человечка больше, загорается искорка Жизни, у которой есть шанс со временем превратиться в большой костер, согревающий не только того, кто его разжег, но и всех тех, кто находится вокруг. А поскольку все относительно, эта искорка тоже зависима — от того, как ты сам к ней отнесешься.
Один считает, что никакой костер ему даром не нужен: наплюет в него, нагадит, перестанет поддерживать огонь — и вскоре его костер погаснет. Все, он никого уже не обогреет в стужу и никому не укажет в темноте дорогу, нет от него ни тепла, ни пользы! О нем забудут, и правильно сделают. А другой всю жизнь только то и делает, что заботится о своем костре: то веточку подбросит, то сухой листик, то щепочку какую-то принесет, следит, чтобы, не дай Бог, он не погас, потому что как же тогда жить, если не гореть? И его костер горит, не угасая, как поется в знаменитом романсе, «мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету». То есть светит так, что его видно даже сквозь туман. А там, глядишь, и туман рассеется: все же относительно, и ничто не вечно...
К сожалению, ни один костер не может гореть и греть всегда одинаково. Рано или поздно он догорает и гаснет, но важно уже даже не это, а то, как о нем потом вспомнят. Сжигал он или согревал? Испепелял или приносил пользу? Светил или чадил, и вообще, какой от него шел по округе запах? Ведь что ты подкинешь в огонь, то там и будет гореть...
И ни в коем случае, ни на одну минуту, нельзя забывать, что рядом с твоим костром есть такой же другой, разгоревшийся из чьей-то чужой искорки Жизни. Не дай Бог тебе плюнуть в него или нагадить! Ведь точно так же поступят и с твоим костром, потому что все, что ты сделал другому, получишь сам, и хорошо, если вернется хотя бы в том же, а не в стократном размере...
Костры человеческих душ не похожи друг на друга, и горят они по-разному: один ярко полыхает и быстро гаснет, второй долго и медленно тлеет, третий вспыхнул — и надолго, если не навсегда, затих. А есть такие, которые уже, казалось бы, отпылали свое и вряд ли разгорятся снова, но глядишь — и разгораются, будто все время копили силы — на то, чтобы в последний раз подарить окружающим свет и тепло.
На самом деле они не копили — они отдавали.
И к ним вернулось.

 Вахтанг КИКАБИДЗЕ: «Все имущество — не очень много у меня есть, но все же — детям и внукам я отписал и сказал: «Можете уже, если хотите, из дому меня выгнать, но если вас правильно воспитал, пока трогать не будете»
Вахтанг КИКАБИДЗЕ: «Все имущество — не очень много у меня есть, но все же — детям и внукам я отписал и сказал: «Можете уже, если хотите, из дому меня выгнать, но если вас правильно воспитал, пока трогать не будете» Мультимиллионер Гарик КОРОГОДСКИЙ: «При Януковиче забирали полбизнеса, а сегодня убивают весь. Все стало хуже и циничнее: единственное, что изменилось, — деньги берут, но ничего не делают»
Мультимиллионер Гарик КОРОГОДСКИЙ: «При Януковиче забирали полбизнеса, а сегодня убивают весь. Все стало хуже и циничнее: единственное, что изменилось, — деньги берут, но ничего не делают» Гарри КАСПАРОВ: «Для России лучшим способом списать долги будет продажа записных книжек Путина — их публикация обрушит политическую систему практически во всех странах от Балтии до Англии»
Гарри КАСПАРОВ: «Для России лучшим способом списать долги будет продажа записных книжек Путина — их публикация обрушит политическую систему практически во всех странах от Балтии до Англии» «Мой костер в тумане светит...»
«Мой костер в тумане светит...» Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1941 года: «Много разговоров о том, что немцы несут новый строй в виде Самостийной Украины, и так об этом говорят, словно все предопределено уже. Страшно»
Киевлянка Ирина ХОРОШУНОВА в дневнике 1941 года: «Много разговоров о том, что немцы несут новый строй в виде Самостийной Украины, и так об этом говорят, словно все предопределено уже. Страшно» Дмитрий ГОРДОН: «Украине оккупированный Донбасс не нужен — это гиря на наших ногах, и нужно ее сбросить»
Дмитрий ГОРДОН: «Украине оккупированный Донбасс не нужен — это гиря на наших ногах, и нужно ее сбросить» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги