Легендарный гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Я оказался не очень, как считали в КГБ, послушным, а Карпов был на редкость покладист, из рабочей семьи, с безупречной анкетой и, кроме того, стопроцентный русский, а я непонятно какой национальности, но точно к русскому народу сомнительное имел отношение»


Когда-то в советских шахматных кругах ему дали прозвище Злодей и с той же неистовой страстью, с которой в СССР поносили, на Западе поднимали на щит. Гроссмейстер Корчной, который в мировой табели о рангах в 70-80-х годах прошлого столетия был шахматистом номер два и ни о чем, кроме игры, не помышлял, стал символом противостояния двух непримиримых систем — чем же такую честь заслужил?
В период гонений на Виктора Львовича советские средства массовой информации усиленно расписывали его желчный, неуживчивый характер, болезненную амбициозность и язвительность суждений, а в книге «Девятая вертикаль», написанной его главным соперником Анатолией Карповым и журналистом Александром Рошалем, речь шла даже о «комплексе Сальери», помноженном на необъективность.
Этот слаженный пропагандистский хор заглушал одинокие голоса тех, кто присоединяться к нему не желал, а ведь в начале карьеры Корчного коллеги отмечали в нем совсем другие личные качества. Так, словечком «закорчнить», которое родилось в 1962 году на Кюрасао, шахматисты называли не способность очернить или закошмарить, а умение создать неожиданную контратаку, поразить самобытным замыслом, сделать редкий по красоте ход. Кстати, еще раньше, в ленинградский период, Виктора уважали за приверженность честной игре — в то время для разрешения конфликтных ситуаций на турнирах шахматисты нередко обращались к нему, а не к судьям, поскольку его авторитет был непререкаем.
Замечу: и после того, как опального гроссмейстера объявили «отщепенцем», «предателем» и исчадием ада, Виктор Львович потрясал мировое сообщество поистине рыцарским поведением. Вспомнить хотя бы 1983 год, когда, казалось, само провидение сжалилось над ним, вечно вторым, и предоставило последний шанс побороться за титул чемпиона мира. Корчному тогда в полном соответствии с правилами ФИДЕ была присуждена победа над юным Каспаровым, который не явился на матч в Пасадену не по своей вине, но 52-летний Виктор Львович великодушно от такого подарка судьбы отказался и сел за шахматную доску с будущим чемпионом мира. Согласитесь, мало кто из мастеров такого калибра на подобное благородство способен.
Впрочем, для советских вождей и послушных их воле шахматных функционеров понятия «честная игра» просто не существовало — всякое спортивное достижение служило в СССР доказательством преимуществ социализма, а всякое поражение считалось ударом по престижу страны, и значит, для победы все средства были хороши: от договорных партий до воздействия экстрасенсов. Как шутили в ту пору на кухнях, в команде советских шахматистов за первой доской неизменно играла власть.
Не всем, разумеется, гроссмейстерам такой расклад нравился, но только один из них рискнул не сказать об этом – просто намекнуть, после чего в назидание остальным строптивца перестали выпускать из страны и от его услуг по популяризации шахмат отказалось ленинградское телевидение. Квартира Корчного прослушивалась, почту из-за границы — английский и югославский шахматные журналы — он получать перестал, несколько месяцев ему не давали выступать с сеансами и лекциями, а когда, наконец, смилостивились, стали присылать туда соглядатаев и вызывать после этого в горком для проработок. Коллеги боялись не только дружить с ним – даже здороваться, в общем, его последовательно выдавливали из страны.
В 1976-м, когда Виктор Львович попросил политического убежища за границей и стал «невозвращенцем», на Западе насчитывалось 43 тысячи беглецов и изгнанников из советского «рая». Бдительные цензоры вносили их имена в черный список: выкидывали из употребления, вымарывали из титров, и для соотечественников эти люди — даже такие звезды, как Солженицын, Нуриев и Ростропович, — как бы исчезали, но со старшим из трех К (как позднее окрестили троицу Корчной – Карпов — Каспаров), на протяжении десятилетий монополизировавших борьбу за шахматную корону, этот фокус не прошел.
К каким только эвфемизмам не прибегали мастера пропаганды, чтобы не упоминать ужасной фамилии претендента, описывая его матчи с Карповым! На фотографиях из Багио и Мерано, ежели они все же к народу просачивались, в лучшем случае присутствовала спина Корчного, а на случай, когда кремлевский фаворит проигрывал, ЦК КПСС утвердил следующую формулировку: «В этот момент чемпион решил не продолжать партию». Совсем как в оруэлловской антиутопии, где делами войны ведало Министерство мира, пытало и расстреливало в своих подвалах мыслепреступников Министерство любви, а фальсификацией истории занималось Министерство правды...
Понятно, почему в команде Карпова, прибывшей, чтобы в шахматном сражении с оппонентом его поддержать, кагэбистов насчитывалось больше, чем гроссмейстеров, а перед следующим матчем в Мерано был арестован остававшийся в Советском Союзе сын Виктора Львовича Игорь. За уклонение от воинской повинности его осудили и отправили в мордовские лагеря, где над парнем издевались, называли сыном предателя, а стоило возразить, избивали и сажали в карцер, при этом тюремщики позаботились о том, чтобы подробности его непростого быта стали известны матери, а значит, и отцу — не случайно свой репортаж о битве за шахматную корону один журналист озаглавил так: «Серые начинают и выигрывают».
Так что ничуть не преувеличивали Владимир Буковский, Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Александр Гинзбург, Эрнст Неизвестный и прочие, когда в открытом письме призывали Запад поддержать отчаянного одиночку «в борьбе с безжалостной машиной уничтожения, перенесенной из лагерей за шахматную доску» — надо ли удивляться тому, что в 1990 году, когда Горбачев вернул моему собеседнику советское гражданство, тот от «серпастого и молоткастого» паспорта отказался, хотя тогда еще не имел никакого?
Остается добавить, что в Киев некогда советский, а ныне швейцарский гроссмейстер Виктор Корчной прибыл всего на 12 часов — чтобы дать это интервью и наутро вернуться назад. На этот раз опасался гость не провокаций спецслужб, а капризов погоды: не дай Бог ненастье помешает вылететь в Цюрих по расписанию, ведь тогда он опоздал бы на день рождения любимой супруги, а не поздравить ее лично просто не мог.
«РОДИТЕЛИ ИЗ-ЗА МЕНЯ ШЕСТЬ РАЗ СУДИЛИСЬ»
— Виктор Львович, я счастлив и, откровенно говоря, польщен тем, что легендарный Виктор Корчной прилетел сегодня по моему приглашению из Швейцарии в Киев, где мы с вами и встречаемся, — кстати, если не ошибаюсь, ваши родители родом из Украины...
— Да, отец в Мелитополе появился на свет, а мать — в Борисполе, куда пару часов назад я приземлился.
— Это правда, что в детстве вы прекрасно понимали украинский язык?
— Ну, это не совсем так. Не знаю, как и откуда, но у меня были польские родственники, и до начала Великой Отечественной я разговаривал свободно по-польски. Увы, во время войны все они умерли от голода, и я сам на санках отвозил их на Волково кладбище. Естественно, потеряв возможность общаться по-польски, язык я забыл.
— Я читал, что вскоре после вашего рождения родители развелись и вы остались с отцом...
— Да, это верно.
— Почему же, когда он ушел в ополчение и на фронте погиб, воспитывала вас мачеха — а где была мать?
— Она несколько раз от мужа уходила, пока, в конце концов, разрыв не стал необратимым, а поскольку мать всегда жаловалась, что ей не хватает денег, чтобы меня прокормить, по этой причине отдавала меня отцу (потом у нее возникали вдруг материнские чувства, и она требовала ребенка обратно). Родители из-за меня шесть раз судились, а где она была?.. Когда началась война, многих куда-то в Среднюю Азию вывозили, и отец, сообразив, что к чему, отправил меня вместе со школой в эвакуацию, а мать, услышав, что составы с беженцами обстреливают, приехала и, ни с кем не посоветовавшись, забрала меня оттуда в уже осаждаемый немцами Ленинград...
— ...где вы провели все 900 дней блокады... Художник Илья Глазунов, который тоже остался в этом терпящем бедствие городе и потерял там всех своих родственников, рассказывая мне о тех ужасах, плакал — пожилой человек, он не мог без слез вспоминать, как дорогие ему люди умирали один за другим, много блокадных историй слышал я и от писателя Даниила Гранина. Интересно, а что из пережитого запомнилось вам больше всего?
— Ну, я уже сказал, что мне, 11-летнему, родственников приходилось на кладбище отвозить, а за водой, помнится, я на Неву ходил — это примерно километр... Трудно пришлось, блокада — это значит, что немцы со всех сторон, из-за артобстрелов по улице ходить опасно.
Был страшный голод, но как-то так вышло, что отец, уходя на фронт, сдал нечаянно свою карточку, а она могла бы здорово нас поддержать. Спасло то, что мачеха работала на 2-й кондитерской фабрике и время от времени у меня...

— ...вместо хлеба был шоколад...
— Не настоящий — из сои, но и это прекрасно. Она как-то сумела несколько раз туда меня привезти, чтобы я мог наесться, тем не менее где-то во второй половине 1942-го в больницу для дистрофиков угодил.
— После войны вы окончили исторический факультет Ленинградского государственного университета...
— ...о чем сожалею (смеется)...
— ...но историком так и не стали. Зато стали четырежды чемпионом СССР, пятикратным чемпионом Европы, шестикратным в составе советской сборной чемпионом шахматных Олимпиад, победителем около 100 международных турниров и, наконец, дважды претендентом на звание чемпиона мира 78-го и 81-го годов. Внушительный список...
— Одно уточнение к последнему пункту: дело в том, что с Анатолием Карповым я играл трижды — в 1974-м мы встретились в финальном матче претендентов, в котором он победил. Карпов тогда обсуждал возможность сыграть с Бобби Фишером...
— ...однако так и не сыграл...
— В общем, меня можно назвать трехкратным претендентом на мировое первенство.
Из книги Виктора Корчного «Антишахматы: записки злодея. Возвращение невозвращенца».
«По-видимому, должного советского воспитания в семье я не получил, и, наверное, отцу моему воздалось за эту небрежность полной мерой — в числе нескольких сотен других плохо вооруженных ополченцев он погиб на Ладожском озере в ноябре 1941 года. Воздалось сполна и остальным членам отцовской семьи, где я воспитывался, — все как один они скончались от голода в осажденном Ленинграде, а я вот остался, выжил и уже в 16 лет, в 1947 году, позволил себе первое — если хотите, политическое — выступление: на уроке истории СССР заявил, что в 1939 году Советский Союз вонзил нож в спину Польше.
Учительница истории Валентина Михайловна Худина несколько дней пребывала в животном страхе: я был ее любимым учеником — доносить на меня она не хотела, и хотя в классе она была одним из любимых преподавателей, мог же среди 26 учеников найтись Павлик Морозов... Поскольку я сейчас эти строки пишу, нетрудно заключить: подонка не нашлось...
Как видите, я очень любил историю, я видел в ней преломленную в исторических событиях правду жизни и — наивный молодой человек! — направился после окончания школы на исторический факультет Ленинградского университета имени Жданова. Довольно быстро я себе уяснил, что с правдой жизни обучение истории в университете мало имеет общего — требовалось изучать, а лучше зубрить написанное Лениным и Сталиным, но несмотря на то, что у меня была хорошая память, изучение «классиков» всегда мне давалось с трудом. Я ощущал в себе какой-то внутренний протест, и хотя диссидентом не был, был шахматистом, и потому искал если не правду жизни, то хотя бы логику в том, что изучал, а ее-то как раз и не было.
Хорошо помню: на втором курсе я отправился сдавать экзамен по истории средних веков. Твердых знаний предмета у меня не было, зато по дороге, в трамвае, я прочитал только что опубликованную статью Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Вождь громил лженаучную теорию Марра, а заодно высказал вкратце свои соображения о каком-то событии, происшедшем в средние века, и когда я очень ловко ввернул замечания вождя, профессор была в восторге и поставила мне высший балл, а я, вроде бы своей цели достигнув, чувствовал себя странно: как будто сам себя оплевал...
Большей частью я все-таки был верен себе и за показухой не гонялся, и вот пришло время государственного экзамена по марксизму — предмету особенно трудному для меня ввиду отсутствия логики в доводах. Было несколько экзаменаторов, студент мог выбрать одного из них, в их числе была и одна моя родственница, но к ней я не пошел. «Хочу жить по совести!» — первым написал Владимир Войнович, а подумали это многие, и я в том числе, и получил тройку.
Память снова и снова возвращает меня к университетским годам — кроме извращенных норм обучения, давила общая обстановка на факультете. Товарищеские отношения, симпатии юношей и девушек друг к другу — все находилось под контролем и было извращено в духе партийной идеологии. Пьянки в факультетских группах по праздникам — 1 мая, 9 мая, 7 ноября, 31 декабря, звериное похмелье людей, желающих хоть на мгновение забыть, что с ними происходит в реальной жизни. Участие в пьянке вроде бы добровольное, а фактически обязательное, иначе скажут: «Брезгует коллективом» — оттуда уже и до «персонального дела» недалеко, а персональное дело может серьезными обернуться последствиями.
Студенческая бедность... В кармане деньги на трамвай, иногда еще на пачку самых дешевых папирос, совсем редко — на студенческий нищенский обед. Если получаешь стипендию — немалое подспорье, но это мне не всегда удавалось. Схлопочешь на экзамене тройку, не сдашь зачет — плакала стипендия на полгода. Тройку можно пересдать, если разрешит комсомольское бюро курса — видите, коммуна, все решают сами студенты (даром что деканат поставляет им нормы — сколько людей нужно лишить стипендии)... Помню заседание бюро на первом курсе. «А тебе зачем пересдавать? — спросили мои якобы товарищи по курсу. — Ты же шахматист, а не историк!».
Вспоминаю общее комсомольское собрание на втором курсе. Обсуждается персональное дело Клары Ж. — ей инкриминируется «моральное разложение». За ходом обсуждения внимательно следит парторг курса Лев Ф. — опекает, значит, молодежь. Всем присутствующим известно, что Клара — любовница Льва, но никому не придет в голову сказать против него слово. Все и без этого заседания ясно: Клара получит «выговор с занесением в личное дело», и на этом основании деканат ее исключит, а Лев благополучно закончит университет и отправится в одну из областей России на важный партийный пост — поднимать экономику и поучать нравственности местных жителей.
Студенческая общественность зорко следит — кто с кем, что и как: обстановка вынуждает — студенческие пары, как положено, женятся. Браки часто бывают неудачными — оказывается, недостаточно строить семейное счастье на базе совместной зубрежки работ «Марксизм и национальный вопрос» и «Головокружение от успехов».
В памяти еще одна всплывает картина: утро после закончившейся пьянки. Все спят в неудобных позах: не спят двое — я и девушка, которая в меня влюблена. Она сидит возле меня, и я глажу ее колени, она влюблена в меня давно, но я никогда не позволял себе — и не позволю! — ее поцеловать. Поцеловал — все пропало: женись или уходи из университета, а она мне хоть и симпатична, но жениться я вообще не спешу. Кстати, про колени в неписаном партийно-комсомольском катехизисе не сказано ничего...».
«В ЛЮБОМ ДЕЛЕ, ВКЛЮЧАЯ ШАХМАТНУЮ БОРЬБУ, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УСМАТРИВАЛО ПОЛИТИКУ»
— Шахматы в Советском Союзе политикой были пропитаны?
— Да, поэтому, когда в 78-м году закончился мой матч с Карповым на Филиппинах, я написал книгу «Антишахматы», изданную на многих языках. Почему, спросите вы, у нее такое название? Да потому, что в любом деле, включая шахматную борьбу, советское правительство усматривало политику.

Из книги Виктора Корчного «Антишахматы: записки злодея. Возвращение невозвращенца».
«Мой первый крупный шахматный успех состоялся в 1952 году. XX чемпионат СССР проходил на сцене московского Дома культуры железнодорожников под громадным, все подминающим под себя портретом Сталина — я занял шестое место, а спустя несколько месяцев Сталин умер. В то утро мне нужно было идти на перевязку в поликлинику: в процедурной надрывался репродуктор, без устали повторяя весть о смерти великого человека, и медсестра, немолодая эстонка, была в состоянии, близком к истерике. Прошло немало лет, прежде чем я понял: прыгала она от радости...
С начала 1954 года я начал регулярно получать деньги как шахматист, — так называемая стипендия, или спецзарплата, выплачивалась спортсмену его спортивным обществом или Спорткомитетом СССР с единственным условием: чтобы он больше нигде не работал, а только добивался успехов в своем виде. Кончатся успехи — стипендию снимут, за давностью лет пропадет у бывшего спортсмена и имевшаяся в прошлом специальность, но никаких финансовых гарантий Спорткомитет не дает и компенсаций не выплачивает.
Обо всем этом в советской прессе с наступлением гласности уже писали, а меня всегда возмущало: с каким лицемерием, прикрываясь словом «стипендия», советские спортивные руководители уверяли Запад, что у них профессионалов нет, а все — любители. Так и ходило по миру: «журналист Таль», «инженер Полугаевский», «психолог Крогиус», «философ Петросян», «экономист Карпов»... Последний действительно «глубокий эконом», как выразился бы Пушкин — впрочем, не стоит отбивать хлеб у штатных биографов: пусть уж они живописуют черты характера руководителя двух крупных финансовых организаций — Советского фонда мира и международного фонда «Чернобыль — помощь».
Мой первый международный турнир — Бухарест, март 1954 года, и тут интересная выяснилась деталь. Каждому выезжающему за границу специальное пособие давали — «экипировочные»: самим фактом установления пособия советское руководство признавало, что уровень жизни в СССР намного ниже западного. Признавало оно косвенно и тот факт, что, кроме дипломатов и шпионов, за рубеж выезжают единицы, при этом участникам международных соревнований, проводимых в СССР, тоже дают экипировочные. Сумма пособия была 1200 старых рублей, то есть 120 рублей по-новому: вполне приличные по тем временам деньги — цена самого хорошего мужского костюма в ГУМе, где я незамедлительно и отоварился...
В апреле 1954 года — второй выезд, в Норвегию, и тут выяснилось, что экипировочные дают не чаще чем раз в год. Я также узнал, что делегацию в капиталистическую страну формируют с особой тщательностью: назначается руководитель группы (как правило, шахматист), но есть и помощник (заместитель) руководителя, к спорту отношения не имеющий. Профессиональный разведчик, он имеет две функции — следить за поведением членов группы и вести шпионскую деятельность в чужой стране. Позднее мне стало известно, что чем представительнее группа, тем мощнее и приданный ей разведывательный заслон: с мастерами выезжали мастера, а с гроссмейстерами — подлинные виртуозы своего грязного ремесла.
Как только мы, студенты, приехали в Осло, нас пригласили в советское посольство. На этот прием я надел лучшую свою рубашку, которой гордился и в которой щеголял в Румынии, однако советник посольства с плохо скрываемым презрением нас оглядел и процедил: «Потрудитесь купить в магазине одноцветные рубашки — здесь такие не носят». Спасибо господину советнику! — его устами двухэтажная Норвегия преподала мне первый политический урок: гигант, победитель во Второй мировой войне, в своем экономическом развитии безнадежно отстал...
Да, за границей было чему поучиться, но частыми выездами судьба не баловала. Впрочем, вундеркиндом я не считался, двигался в шахматах медленно, и хотя в 1956 году получил билет гроссмейстера СССР под номером 17, был еще далеко от верхушки сильнейших советских виртуозов. Зато, выезжая за рубеж, смотрел на окружающую действительность во все глаза: интересовался жизнью людей, читал на разных языках газеты.
Вместе с тем развитие моего политического сознания шло крайне медленно, уступая по темпам даже шахматному росту. Вспоминаю поездку в Аргентину летом 1960 года — в городе Кордобе организаторы устроили банкет по случаю окончания турнира, в котором участвовали мы с Таймановым, и меня посадили рядом с симпатичным на вид молодым человеком, который в приятельской манере стал задавать мне вопросы.
— Скажите, а почему советские понастроили военных баз по всему миру?
— А почему американцы имеют базы во всем мире? — отпарировал я.
— А зачем советские покорили народы Восточной Европы и сделали из них сателлитов?
Этого уже я не выдержал и, как говорят японцы, потерял лицо. Я кричал, не помню что, как в истерике, — сбежались организаторы, извинились за оплошность, нас рассадили...
И еще один случай: в городе Санта-Фе меня посетил один украинец. Лет 30 назад он уехал из Советского Союза, в Украине у него остался брат. Он дал мне его адрес и долото, чтобы я переслал его брату. Мне трудно объяснить самому себе, а тем более современным читателям, что со мной стряслось, но я так никогда и не послал долото по указанному адресу. Необъяснимый страх перед Западом, страх оказаться соучастником какого-то заговора против СССР и прочую чушь в голове — это еще предстояло мне преодолеть».
«КРУГ ПОСТЕПЕННО СЖИМАЛСЯ: ЧТО-ТО ВОКРУГ НАЗРЕВАЛО, НА МЕНЯ СОБИРАЛ МАТЕРИАЛ КГБ»
— Вы, как и большинство отечественных гроссмейстеров, были членом Коммунистической партии Советского Союза, но отличались прямотой суждений и обостренным чувством справедливости. Такое правдолюбие в шахматной карьере явно не помогало, а, напротив, мешало...
— ...да, это правда...
— ...а когда вы впервые почувствовали, что вам в СССР плохо?
— В 1965 году сборная советских шахматистов играла в Западной Германии в европейском командном чемпионате, а после окончания соревнований гроссмейстеры могли заработать деньги, выступая в разных немецких городках, и в один из них отправились мы с гроссмейстером Геллером. Встретил нас пожилой человек, который разговаривал по-русски, чему я был удивлен, и спросил: как? почему? Он ответил: «Выучил язык по радио» — или что-то в таком роде, мы сидели, мило беседовали и вдруг он произнес несколько слов по-английски. Ефим Геллер, экономист с Дерибасовской, не отреагировал вообще...

— ...английского он не знал...
— Нисколько, и тогда наш спутник по-английски предложил мне остаться в Германии и на первых порах обещал помощь. В позу оскорбленного члена КПСС я не встал, но в то же время мягко эту идею отклонил. «Мы, гроссмейстеры, в своей стране в привилегированном находимся положении, — сказал. — Извините». Понимаете, чтобы совершить столь ответственный шаг, нужно было созреть — я тогда еще не созрел.
— Делаю вывод, что жилось вам все-таки в СССР хорошо...
— Слово «хорошо» тут не очень уместно — мне было неплохо...
— ...особенно по сравнению с другими...
— ...хотя какие-то симптомы были, что-то вокруг назревало, например, на меня собирал материал КГБ. Кажется, в том же 65-м я договаривался с немецкой девушкой русского происхождения пойти в кино, и хотя это, так сказать, свидание не состоялось, бдительные органы отметили: позволил себе пригласить девочку.
— Красивая она хоть была?
— (Улыбается). Ничего, а еще раньше, в 62-м, я на Кюрасао играл. Турнир проходил в гостинице, и там же было неподалеку казино, куда, проиграв партию, я позволил себе зайти. Мне после поражения необходимо было расслабиться, но это для них не имело значения, и в деле моем записали: играл в казино. Так круг постепенно сжимался, и хотя великих и просто больших шахматистов за такие «порочащие звание советского человека» поступки не мучили и на ковер не вызывали, компромат учитывали и делали выводы. Одно дело Карпов — всегда ведет себя чинно, никаких ходов влево, и другое — этот Корчной: мало того что известной национальности, так еще и много себе позволяет.
Из книги Виктора Корчного «Антишахматы: записки злодея. Возвращение невозвращенца».
«Чем выше я поднимался по лестнице шахматных рангов, тем больше ощущал противодействие моим попыткам играть в международных соревнованиях — особенно трудно стало, когда уже дважды, даже трижды я был чемпионом Советского Союза (в 1963-1965 годах).
Вот одна, сравнительно примитивная, история... В 1963 году в Калифорнии организовали международный турнир, так называемый Кубок Пятигорского, и пригласили Кереса и меня, однако на заседании Шахматной федерации СССР новоиспеченный чемпион мира Петросян заявил, что хочет ехать он. Был дан соответствующий запрос организаторам, которые в ответ прислали три билета — на нас с Кересом и на Петросяна, и все-таки меня не послали — по моему билету в США отправилась жена Петросяна (эти подробности мне довелось узнать лишь через 14 лет из беседы с вдовой господина Пятигорского)...
Бывали случаи много запутаннее: когда федерация на соревнование направляла, но решения-разрешения партийных органов на выезд не было.
Система выглядела так: сперва Шахматная федерация СССР или ее ответственный работник (то есть сотрудник Спорткомитета) рекомендовали имярек для участия в некоем соревновании, затем в спортивном обществе шахматиста партячейка, просмотрев анкету рекомендованного, приглашала его, независимо от того, партийный он или нет, на беседу, давала, как правило, добро, а потом документы направлялись в райком партии, где их обсуждала выездная комиссия, иногда с приглашением испытуемого. После этого бумаги вместе с решением комиссии шли в Москву, в первый (секретный) отдел Спорткомитета СССР и в выездную комиссию ЦК КПСС.
На всей линии обеспечивалась полная секретность, и узнать, где заминка, никакими силами было нельзя, а между тем стоило какой-нибудь Марье Ивановне или Роне Яковлевне набрать номер члена комиссии ЦК, какого-нибудь Петра Ивановича, с которым она полгода назад выпивала в компании на День пожарника, и сказать: «Заходи к нам, Петя, мой муженек тебе гостинцы привез из Америки. Кстати, там один еврейчик, Корчной такой, за границу хочет. Он, знаешь, на Кюрасао в казино играл, и вообще, нам его рожа не нравится — дай ему, пожалуйста, отвод...» — и ничто уже тебе не поможет, и будешь ты обивать пороги начальства, а оно, только что прочитав копию твоего личного дела, будет говорить с умным видом:
— Вот вы в 1961 году в ФРГ женщину в кино приглашали, а на следующий год в казино играли, а в 1963 году вы, говорят, в Югославии много выпили. Как же мы вас можем за рубеж посылать?!» — и будешь ты объяснять, что поход в кино не состоялся, что в казино отправился, потому что партию проиграл, что в Югославии не напивался — это лишь слухи, но разговор этот не играет никакой роли, потому что решение уже принято в другом месте — выше (или ниже) и, как говорят в судах, обжалованию не подлежит.
Помню, как с целью узнать, кто и почему не выпускает меня, я выслеживал секретаря Октябрьского райкома партии Ленинграда — как скрывалась она через черный ход, как от меня бежала! Миловидная женщина, товарищ Мирошникова, и бегала неплохо — наверное, в связи с перестройкой на повышение пошла...
Наконец, в 1965 году я дошел до ручки: решил вступить в партию — как последний шанс облегчить свою участь, и действительно, поначалу помогло.
Мое политическое самообразование развивалось между тем и по другим каналам, и немалую роль в его ускорении сыграла поездка в 1963 году на Кубу.
Как-то глубокой ночью нам с Талем, с которым приятельствовали на протяжении многих лет, захотелось чего-нибудь съесть и выпить. В сопровождении советника посольства Симонова мы разыскали расположенный прямо на улице бар, и хозяин, обслуживая нас, спросил, кто мы такие. «Носотрос сомос еспециалистос чехословакос», — ответил за всех Симонов. Мы спросили его: «Почему?» — а он, посмотрев многозначительно на часы, ответил: «Сейчас три часа ночи — не забывайте: советские ответственны за все!».
Эта тирада произвела на меня огромное впечатление, а об уроке, полученном от Симонова, нам довелось вскоре вспомнить, но пока — о другом.
Будучи второй раз в испаноговорящей стране, я делал успехи в испанском, мне случалось быть переводчиком у своих товарищей по турниру Геллера и Таля, и однажды в вестибюле отеля меня встретила молодая интересная женщина. Я узнал ее — она на турнире бывала.
— Сегодня вечером я хотела бы увидеться с Талем, — сказала она.
— Это невозможно, у него вскоре встреча с Симоновым.
— О, я знаю Симонова: передайте ему, что вечером мне нужно видеть Таля — и проблема решена!
— Нет, если уж Таль встретится с вами, в посольстве об этом знать не должны.
— Но почему?! Ведь мы, я и моя подруга, — коммунистки, мы вас поддерживаем!
На этот вопрос я с ответом замялся. Действительно, почему?
— Ну, у советских особые правила поведения, им нельзя за границей...
— Но ведь Спасский, который был здесь в прошлом году, с девушками встречался!
— Вот поэтому его и нет здесь сейчас, в этом году.
— Что же это такое?! — возмущенно воскликнула она. — Запрещено любить?!
Это «прохибидо амар!» до сих пор звучит у меня в ушах...
1965 год, я в третий раз стал чемпионом СССР, меня пригласили на крупный турнир в Югославию, но для нашей федерации такой факт, как персональное приглашение, не играл роли. Они решили послать меня на маленький турнир в Венгрию, я упирался, и меня вызвали в Комитет, пред светлые очи товарища Казанского, который тогда курировал шахматы.
— Вы понимаете, — говорил он, — в Будапеште прошли советские танки, и вам, чемпиону страны, поручено, образно говоря, прикрыть своим телом дыры в домах, ими проделанные».
Действительно, образно, но отказался я наотрез. В Венгрию не поехал — в Загреб не послали тоже.
«СИДЯ НА ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ, КОТОРАЯ СТАЛА ЦЕРЕМОНИЕЙ МОЕГО УНИЖЕНИЯ, Я САМ СЕБЕ СКАЗАЛ: «НАДО УЕЗЖАТЬ»
— Одним из организаторов травли, которая началась против вас в Советском Союзе, был чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, а что послужило причиной, толчком? Личная неприязнь?
— Однозначно ответить мне трудно, хотя конкретная причина была — у нас испортился матч (в апреле 1974-го, в полуфинальной стадии очередного цикла борьбы за мировую шахматную корону. — Д. Г.). Мы играли в Одессе, в здании драматического театра на грубо сколоченном помосте, который установили на сцене, прямо на поворотном круге — конструкция получилась шаткая, а у Петросяна была очень неприятная привычка в конце партии в напряженных положениях перебирать ногами, из-за чего стол сотрясался. Помню, я попросил его потише себя вести — безрезультатно, а когда стал настаивать, он подал в судейскую коллегию протест, что Корчной мешает ему играть, — в этом духе все продолжалось.

— Тигран Вартанович утверждал, что вы его под столом пинали ногами...
— Он много чего писал... Матч должен был длиться до четырех побед, я уже выигрывал третью партию, и в момент, когда над очередным размышлял ходом, соперник опять начал бить ногой по полу. Я встал, пошел к судье жаловаться, а тот лишь плечами пожал: ну что, дескать, он может сделать? Тем не менее победа осталась за мной, и при счете 3:1 Петросян завершать матч отказался — написал в ЦК КПСС, а также в Международную шахматную федерацию, что я обидел его, и потребовал признать его победителем.
Летом, когда в Спорткомитете СССР обсуждался вопрос, можно ли нас обоих включать в сборную страны, которая отправлялась на Олимпиаду в Ниццу, Петросян сделал вид, что ничего не случилось, лишь бы его из команды не выбросили, но обиду (еще одну) затаил, и очень скоро я смог в этом убедиться...
Впрочем, какое-то время мы все же дружили... Помню, перед его матчем за звание чемпиона мира со Спасским в 1969 году я ему прямо в лицо сказал, что он проиграет (ну, так почувствовал и оказался прав), а когда Петросян должен был играть матч с Фишером, он был готов пригласить меня в Буэнос-Айрес. Представляете, я бесплатно еду в Аргентину ради того, чтобы один-два хода показать Петросяну — ну кто в Советском Союзе за такую возможность не ухватился бы? — но я сказал (смеется): «Нет, я же участник этого соревнования, вы меня обыграли, а теперь хотите, чтобы я ехал помогать вам бороться с Фишером?» — и отказался. Это тоже был сильный удар: после нашего разговора Петросян знал, что матч проиграет.
— Летом 76-го в СССР разорвалась информационная бомба: прославленный советский гроссмейстер Виктор Корчной отказался возвращаться с турнира в Амстердаме на Родину и попросил политического убежища в Голландии, а когда правительство этой страны в этом ему отказало, поселился в Швейцарии. Что к столь отчаянному и смелому шагу вас подтолкнуло?
— Начнем с того, что финальный матч претендентов на первенство мира, который мы с Карповым играли в 74-м году в Москве, проходил в сомнительных, скажем так, условиях. Все крупнейшие гроссмейстеры СССР обязаны были нести свои замыслы и идеи моему сопернику — того же, кто пытался помогать мне, подвергали остракизму, могли выбросить из списков на поездку за рубеж или, напротив, послать вне очереди на турнир куда-нибудь на Запад.
— Почему же зеленая улица была именно Карпову?
— Ну, я вам только что говорил, что оказался не очень, как считали в КГБ, послушным, а он был на редкость покладист, и кроме того, стопроцентный русский, а я непонятно какой национальности, но точно к русскому народу имею сомнительное отношение.
— Карпов — уральский самородок...
— Ну да, из рабочей семьи, с безупречной анкетой, в отличие от меня не позволял себе вольностей. Перед матчем нам задали несколько вопросов — например, поинтересовались, кто наши любимые писатели: я О’Генри назвал, а он — Лермонтова. Спросили, какой нам понравился фильм: я ответил, что «Ночи Кабирии» Федерико Феллини, а Карпов — что киноэпопея «Освобождение» про войну, и так было во всем. Этот человек знал, что сказать, к тому же не будем забывать, был моложе меня на 20 лет, а это тоже, когда на чаше весов вопрос, кому из советских шахматистов бороться против молодого Роберта Фишера, кое-что значит. Прикинули: лучше, чтобы это был молодой человек, и было принято решение, что фаворит матча — Карпов, а значит, людей, которые приходят и позволяют себе здороваться со мной или с моей женой, быть не должно. Приходил вот Василий Смыслов, так его, чтобы мне не помог, на турнир послали.
Давид Бронштейн занимался со мной в пригороде Ленинграда Луге. Я говорил ему: «Давайте сделаем вас моим главным тренером», а он: «Понимаете, я же шахматный отдел веду в газете «Известия» и, если стану вашим тренером, не смогу освещать матч» — и предложил поддерживать меня неформально. Мы работали только вдвоем и у него дома, но «заинтересованные лица» об этом узнали — в ход шли все средства, включая шпионаж. В общем, когда Бронштейн после двухмесячного отсутствия вернулся в Москву, отдел у него все равно отобрали.

— Из всех в этом матче партий особо запомнилась та, которую вы выиграли у Карпова в 19 ходов...
— После нее неизвестный доброжелатель прислал на мое имя открытку с такой эпиграммой:
Не ограничился одной
И брякнул так, что небу жарко,
В очковой партии Корчной —
И только трепыхнулся Карпов.
Это была 21 партия, поэтому в тексте — «в очковой», но парадокс: раньше анонимные письма подлецы посылали, а тут имя вынужден был порядочный скрывать человек! Ну и вот конец матча — смотрю: Карпову приз «За волю к победе» вручают, за прочее, а я — лишний (пожимает плечами). Вот тогда-то, сидя на церемонии закрытия, которая стала церемонией моего унижения, я сам себе сказал: «Надо уезжать».
— Когда по окончании этого матча вы дали югославскому агентству ТАНЮГ интервью, где непочтительно отозвались о сопернике — члене ЦК ВЛКСМ, любимце партии и народа, мосты за собою сожгли?
— Я лишь сказал, что по таланту Карпов не превосходит тех, кого в данном цикле я обыграл, и тут началось... Сначала Петросян опубликовал в «Советском спорте» реплику «По поводу одного интервью Корчного», затем мое поведение осудила Шахматная федерация СССР, а вскоре в прессе появились и письма трудящихся под рубрикой «Hеспортивно, гроссмейстер!». В наказание мне запретили в течение двух лет выступать в международных соревнованиях за пределами страны и срезали гроссмейстерскую стипендию с 300 рублей до 200... В общем, я окончательно убедился: если еще хочу играть, надо бежать.
(Продолжение в следующем номере)

 Экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО: «Будь сейчас ХІХ век, я бы вызвал Матиоса на дуэль и пристрелил за наглую ложь»
Экс-министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО: «Будь сейчас ХІХ век, я бы вызвал Матиоса на дуэль и пристрелил за наглую ложь» Легендарный гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Я оказался не очень, как считали в КГБ, послушным, а Карпов был на редкость покладист, из рабочей семьи, с безупречной анкетой и, кроме того, стопроцентный русский, а я непонятно какой национальности, но точно к русскому народу сомнительное имел отношение»
Легендарный гроссмейстер Виктор КОРЧНОЙ: «Я оказался не очень, как считали в КГБ, послушным, а Карпов был на редкость покладист, из рабочей семьи, с безупречной анкетой и, кроме того, стопроцентный русский, а я непонятно какой национальности, но точно к русскому народу сомнительное имел отношение» Российский историк и публицист Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: «От Путина уже смердит политической смертью, и приближенные шакалы это прекрасно чувствуют»
Российский историк и публицист Андрей ПИОНТКОВСКИЙ: «От Путина уже смердит политической смертью, и приближенные шакалы это прекрасно чувствуют» У знаменитого киевского писателя Виктора НЕКРАСОВА, официально считавшегося бездетным, был сын в Австралии, о чем Некрасов проговорился в беседе с приятелями
У знаменитого киевского писателя Виктора НЕКРАСОВА, официально считавшегося бездетным, был сын в Австралии, о чем Некрасов проговорился в беседе с приятелями Концерт Виктора Шендеровича в Киеве
Концерт Виктора Шендеровича в Киеве Дмитрий БЫКОВ: «А вы нам запретите лирику, когда вам надоест, — тогда мы перейдем на мимику, мы перейдем на жест!»
Дмитрий БЫКОВ: «А вы нам запретите лирику, когда вам надоест, — тогда мы перейдем на мимику, мы перейдем на жест!» Отар КУШАНАШВИЛИ: «Те, кто захапал Крым, обернутся беспомощными чайками, попавшими в нефтяное пятно»
Отар КУШАНАШВИЛИ: «Те, кто захапал Крым, обернутся беспомощными чайками, попавшими в нефтяное пятно»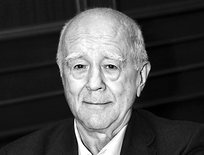 Родина и государство
Родина и государство Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги