Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?»


(Продолжение. Начало в № 39)
«Сперва было: «Руки за спину!», «Лицом к стене!», а я в глаза им смотрела и спрашивала: «Почему я так делать должна?». У них шок был: мебель вопросы им задает!»
— Тюрьма в принципе ломает людей, унижает и добивает, в каких-то существ превращает. Как вам в российской тюрьме сиделось?
— Любая тюрьма — это заведение, созданное для уничтожения человека, но тюрьма тюрьме рознь — это во-первых. Я вот в Воронеже, в Москве и в Ростове сидела — многое от людей, которые там работают, зависит, но и от того, как ты себя ведешь. Они никогда ко мне так не относились, потому что я не разрешала так к себе относиться. Да, сперва было: «Руки за спину!», «Лицом к стене!», а я в глаза им смотрела и спрашивала: «Почему я так делать должна?». У них шок был: мебель вопросы им задает! Мебель — это значит, ты рот закрыла и идешь: могут еще и дубинкой огреть, если идешь плохо...
— Даже женщину?
— Да все равно кого — женщин за женщин они не считают, а особенно наркоманов не любят: это для них вообще мусор. Я, если по коридору и без наручников шла, руки сзади не держала, довольно быстро шагала, по сторонам смотрела...

— ...Пуля...
— ...ну да, и это в ступор их приводило. Сначала меня вообще на особо строгом режиме держали — прежде чем из камеры выйти, я должна была руки высунуть, чтобы наручники мне надели. Потом только дверь открывали и меня выпускали, но когда по коридору я шла, видела, как конвойные людей разгоняют, как к другим заключенным относятся, как с ними разговаривают. Имен у них нет, только приказы: «Встал!», «Туда!», «Ушел!» — с такой грубостью, желанием пнуть, толкнуть: для меня это дикостью было. Заключенный обращается, предположим: «Товарищ майор!», а ему в ответ: «Тамбовский волк тебе товарищ!». Я развернулась как-то и сказала: «Знаешь, сегодня тамбовский волк, а завтра и ты товарищем можешь стать — от сумы и от тюрьмы не зарекайся!».
Конечно, их это шокировало — что я отвечаю, заступаюсь, но я вообще не из этой системы, закон, чтобы в тюрьме не сидеть, никогда не нарушала и многих вещей просто понять не могла. Например, почему нельзя иголку и ножницы в камере держать, если это необходимые вещи. Удивляло все, и когда я что-то просила, а мне говорили, что нельзя, я просто объяснений требовала: «Шо за бред? Почему?». — «Шнурки нельзя, потому что удавишься». — «Слушайте, — говорила, — человек может себя десятью способами голыми руками убить, так неужели, если я захочу это сделать, вы меня остановите?».
Не понимала я их систему, а они не понимали меня, поэтому настороженно ко мне относились. Еду дают — я: «Добрый день», «Спасибо», «Пожалуйста», и это их удивляло, но потом они тоже со мной так общаться начали, улыбаться, заходя. Я в одиночке постоянно сидела, возможности с кем-либо разговаривать у меня не было, и говорить со мной запрещено было, но когда конвойные меня вели, могли пару добрых слов сказать, особенно женщины — они первыми теплеют, смягчаются. Хотя и редкие стервы были — те, которые где-нибудь в интересных местах обыскивают, но в основном все от того, какой ты человек, зависит, как ты к людям относишься, так и они к тебе. Были такие, на которых ты смотришь и понимаешь: говно говном, своей властью над жизнями других упивается, заключенных бьет, издевается — садист, а были обычные нормальные люди. Да, к другим могли быть жестокими, но меня не трогали — я как-то быстро известной стала...
— ...статус не позволял...
— ...и у них основная задача была — меня изолировать и очень тихо и подальше от меня ходить.
Из книги Надежды Савченко «Сильне ім’я Надія».
«Упекли» мене в дурдом. Процедура прийому в дурдомі — взагалі шок! Тебе зважують (на той час я важила 70 кг), забирають на зберігання всі твої речі. Якщо щось потрібно — пишеш заяву, і тобі «піднімають» (видають), і то не все, а тільки те, що адміністрація дозволить. Із собою дозволяють взяти: двоє трусів, двоє шкарпеток, туалетний папір два рулони (потім піднімуть ще, якщо треба), зубну щітку і пасту, мило пральне (не порошок!), крему (якщо користуєшся), прокладки-тампони, цигарки без сірників (там запальничку будуть видавати, щоб прикурити) — і все. Ні ліфчиків, ні майок не можна, всі ходять «простосісі». Ні води, ні соків, ні продуктів, ні одягу!

Далі залазиш у ванну для дезінфекції... В руки тобі плескають якусь гидоту помити в піхві та під руками — вошей і всяких паразитів потравити! Потім кажуть присісти навприсідки, і, — вдумайтесь тільки — санітарка поливає тебе зверху душем. Як в сталінських концтаборах! Я аж вибухнула: «Та дайте ви сюди цей шланг!!! Я доросла, нормальна людина, сама помитися можу! Мене навіть в дитинстві рідна мати не мила! Та скільки ж можна приниження це терпіти!». Санітарка віддала шланг і відійшла від гріха подалі...
Помили. Далі одягають. Труси-носки вдягаєш свої, і тобі видають: футболку (зелену, армійську, розтягнуту, вже не один псих в ній помер), піжаму кислотно-блакитного кольору, трикотажну (щоб, як будеш тікати з психушки, за 12 кілометрів видно було), рушник і капці резинові.
Прибарахлили... Ведуть у відділення в наручниках... Охоронець бере під лікоть, і, не дивлячись на те, що я вже й так в наручниках, у нього страшенно перелякані очі, і я відчуваю, як тремтить його рука. Ну це ж треба так боятися! Чи в нього від природи нервовий тік? Може, йому треба обстежитися у закладі, де він працює? І що їм про мене такого наговорили, що вони всі такі перелякані?».
«В Москве противно было, потому что москвичи — это не россияне, там больше людей собачьих»
— Где вам лучше сиделось — в Воронеже, Москве или Ростове?
— Да нигде не сиделось лучше (смеется), нельзя так сказать. В Воронеже тяжело было, потому что это первые дни: четыре стены, окна закрашенные, ты просто дуреешь, не понимаешь, что это за мир такой, как ты сюда попала и что вообще происходит. В Москве противно было, потому что москвичи — это не россияне, там больше людей собачьих.
— Хм, а в чем разница?
— Ну, это же женская колония, и к женщинам там подход особый. Ко мне, в частности, — например, когда ухо лечили. Я слух почти потеряла, а они: «А, посидишь» — не особо церемонились, все-таки Москва, там они и не таких «звезд», как я, видели. В Москве, наверное, я больше всего ругалась, голодовку там объявила, так они еще и издевались: «А вдруг вы шоколадку припрятали?»...
— ...рошеновскую...
— Да-да, переданную лично. Там один гидотный такой дядька был — когда есть приносил, я эту кашу на него высыпала... Мне только там взыскания объявляли — вызывают, я на них смотрю: «Чего вы хотите?». — «Вот взыскание вам за плохое поведение...». Я: «Шо? Ну, я понимаю, в армии взыскания могут быть, но в тюрьме вы меня чем пугаете — тюрьмой? Что может быть хуже, чем еще вы меня наказать собираетесь?», а они стоят, смотрят на меня и понять не могут, почему я сейчас, как зек, не трясусь, потому что взыскание на досрочное освобождение влияет. Я: «Да я у вас сидеть все равно не буду, я здесь ровно столько, сколько захочу, пробуду»...
— Они, наверное, перекрестились, когда вы оттуда ушли...
— Скорее всего, да, а в Ростове уже легче было, потому что там были суды. Я, как на работу, туда ездила: вечером упала, утром встала, включилась, среди людей побыла, отдохнула морально — и опять в камеру.


— Что в российской тюрьме самое страшное?
— Именно как российскую тюрьму я ее не видела — у меня не тюрьма была, а монастырь. Ужасы есть, но кому-то повезти может, и он этого не увидит, а кого-то и избивают, и на пресс-хату кидают... У меня зоны как таковой не было, чертов монастырь был, но все, с кем доводилось общаться, говорят, что самое страшное — это одиночка, потому что люди там больше полугода не выдерживают, «вскрываются» (перерезают себе вены или горло. — Д. Г.), что угодно делают, только чтобы оттуда вылезти, а я как-то спокойно два года там прожила.
— В первый же день в тюрьме у вас, знаю, критические дни начались...
— Ну да, забросили меня в этот мир, и я не понимаю, что происходит, стучу: «Хоть что-то мне дайте — таблетку, прокладку...», а они: «Да, щас! Принесем...». Сижу в крови — вечером только принесли. Смотрю на них: «И что теперь?». Повсюду видеокамеры, даже в туалете: видно, что у меня ничего нет — одни трусы, одни штаны, которые следователь купил, одна майка... «Где, — говорю, — ваш ум, что дальше мне делать?». Ну, для них это в порядке вещей: кинули тебе что-то в «кормушку» — и будь доволен.
— Лишь бы унизить...
— Ну да, зеков они за людей не считают, и пока не покажешь им, что ты человек и с тобой они так разговаривать не будут, они убеждены, что все люди — мусор.
Из книги Надежды Савченко «Сильне ім’я Надія».
«10 лютого суд був тяжкий, як завжди безчесний і дуже нервовий. Мені було тяжко бачити з клітки рідних, особливо маму... Віра-то трималася, а мама є мама, вона тихо плакала...
Коли вони залишали залу, конвой і судові пристави їх просто брутально, нахабно і жорстоко звідти викинули. «Разговаривать нельзя! Такие правила!». Та розумію я ваші грьобані правила, але маму — людину, якій 77 років, у якої були ребра поламані?! Так хапати і стискати, що вона від болю аж зуби зціплює?! Думала, розірву ту клітку к чорту! Бидло, блядь!!! Та поставте ж ви очеплення за півметра до ґратів — я сама поясню, що їй треба вийти.
Попросила маму більше в суди не приїжджати, бо мені нестерпно дивитися, коли її мучать, а я безсила її захистити...».
«Сепаратист над парнями моими поиздевался, а меня хотел побить, но не смог. «В тебе, — сказал, — больше достоинства, чем во всех них, вместе взятых»
— В плену и в тюрьме били?
— В тюрьме нет, а в плену — при захвате: ну, это обычная реакция на врага. Потом еще ночью злость сгонять приходили, но сепаратист тот над парнями моими поиздевался, а меня хотел побить, но не смог. Двумя-тремя фразами перекинулись, и он сказал: «В тебе больше достоинства, чем во всех них, вместе взятых» — руку пожал, развернулся и ушел.

Из книги Надежды Савченко «Сильне ім’я Надія».
«День видався насичений, хотілося спати. Задрімала, сидячи на стільці, прикута за руки до труб, головою обперлася на трубу. Спала чутливо. Стерегти мене залишили караул — трьох з автоматами.
Посеред ночі в спортзал увірвалися двоє «ополченців» — видно, на емоціях, після бою... Один підійшов до мене, стукнув мене кулаком по голові: «Ну, привет!». Я йому: «Ну, привіт!». Інший, високий такий, йому каже:
— Это женщина, офицер.
— А! Женщина!.. Ну, ее я на закуску оставлю!
Йде в кімнату, де хлопці сидять. Ясно, пішов зло після бою зганяти. Із сусідньої кімнати чути глухі удари, стони... Бив недовго, пар швидко вийшов! Другий, високий, весь цей час сидів біля мене на стільці. У караульного, який спостерігав за всім цим, покруглішали очі... Виходить, іде до мене:
— Ну, что?!
— Не знаю, ти мені скажи, що?
— Зачем вы все это начали?!!
— Не ми почали.
— А кто? Мы? Я сегодня убил пятерых! Как мне с этим жить?! (говорить з надривом).
— Мені шкода... Але кожен вибирає сам... (кажу абсолютно спокійно).
— Да, ты права!.. Выбирает сам!.. Давай! (Подає руку). Теж подаю руку, привстаю. «У тебя мужества больше, чем у них, вместе взятых». Виходить. За ним виходить і високий. Сідаю на стілець. Спираю голову. Закриваю очі. Кімарю до ранку. Не думаю...».
— Нормальных людей, которым хотелось бы сегодня при встрече руку пожать, вы там встречали?
— Встречала — и среди сепаратистов, и в России тоже. Меня как-то спросили, за что врага уважать можно. Да много за что. За то, что без причины не стреляет. Что, когда стреляет, думает. Что раненому помогает, даже противнику. За то, что местное население не кошмарит. Даже за ту самую сигарету, которой с тобой поделился.
Сижу, например, в плену и вижу: всем курить хочется. У меня у самой четыре блока сигарет украли — вместе со мной (улыбается), и вот мне сигарету дают, а я прошу: «Можно пачку оставить — ребятам? Или сами передайте — в соседнюю комнату».
Сепаратисты мое отношение как офицера к личному составу видели, выводы делали... Однажды спросили: «Тебе чего хочется?». Я: «Ананас!». Ну чего я могу просить? «Выпустите, я воевать с вами пойду»? Сказала — и ананас принесли. Нарезали его — снова прошу: «Парням передайте». Мне там особо есть не хотелось, а ребята голодные, я говорила: «Мою порцию в соседнюю комнату отдайте» — поэтому, наверное, и ко мне относиться нормально начали, и к другим нашим, с нами по-человечески говорили. Все, повторяю, от того, как ты себя ведешь, зависит, ну и еще от того, к кому ты попал, потому что редкостные ублюдки есть, и я прекрасно понимаю, что иногда ни человечность, ни какая-то гуманная твоя философия не спасают, потому что тип перед тобой совершенно свихнувшийся. Нам с парнями еще повезло, что в батальон «Заря» попали, который чокнутым не был, — по крайней мере, в то время.
— Во время отсидки в «одиночке» чем ваши дни были наполнены?
— Отключкой мозга и памяти. Есть вот у человека мысли, планы, мечты, стратегии — все это сразу отключать надо, память о плохом или хорошем есть — это тоже. Сначала память отключаем, потом планы — концентрироваться на здесь и сейчас, на тактильных ощущениях нужно, искать то, что тебе приятно. Там, конечно, что-то хорошее найти трудно — все колючее, холодное, железобетонное, но если нашел то, что тебе приятно, концентрируешься на том, какие чувства это у тебя сейчас вызывает. Какие-то картины в голове возникают — небо, облака, вода, природа... Мозг отключать надо, иначе не выдержишь.

— О чем вы в тюрьме мечтали?
— О воле!
— О чем еще можно, да?
— Конечно (улыбается). Бессилие очень бесило: ты видишь, что война идет, люди гибнут, но бестолковые решения принимаются...
— ...предателями и дураками...
— ...да, котлы возникают, ребята в плен попадают, а ты здесь сидишь, на всех этих отравленных ядом российских журналистов смотришь, которые вокруг верещат, и тебя от всего этого просто коробит. Сигареты, правда, спасали: я курю и никогда не брошу, даже во время сухой голодовки курила — ну, потому что это хоть что-то твое (все у тебя забрали, только это осталось).
«40-й день голодовки идет, ты ничего не ешь, а плохо от этого твоим тюремщикам»
— В тюрьме вы бесконечные голодовки устраивали... Я с такими несгибаемыми героями и борцами, как Владимир Буковский, Мустафа Джемилев, Юрий Шухевич, Натан Щаранский, общался, которые голодали долго — и в камере, и в карцере, а какие ощущения во время голодовки у вас были?
— Ну, карцер мне обещали, на что я просто смеялась: «Вообще-то, я уже в одиночке — что карцер изменит?». — «Там лежать нельзя». — «Лежать на полу можно» — после этого о карцере говорить перестали. Какие чувства были, сказать не могу. До этого я один раз голодала — просто чтобы проверить, сколько человек без еды выдержать может: семь дней продержалась и поняла, что чем-то сверхординарным и сложным это для меня не является. У меня все-таки довольно сильный летный организм и здоровье. Было...

— Было?
— Да, сейчас немного уже подгроблено, а раньше — да, было, и мне его хватило надолго. Пугали, что на 30-й день люди умирали, что выведение из голодовки тоже смерть, но о голоде или о еде я не думала — это такая борьба была, когда 40-й день идет, ты ничего не ешь, а плохо от этого твоим тюремщикам становится, у них такие глаза, по которым понятно: не могут они в толк взять, что происходит. На заключенных, которые голодовку объявляют, обычно с презрением смотрят — в курсе, что так или иначе какие-то «дороги» у них есть, они тайком подъедать будут, а я в камере одна, «дорог» никаких, все у меня забрали, охранники прекрасно знают, что ничего я не ем. Дольше 10 дней к тому же, как правило, голодовку не держат, а тут уже 40-й, и им ничего другого не остается, кроме как друг у друга спрашивать удивленно: «Как она так может?». У людей психика и стереотипы ломаются: да кто в состоянии это выдержать, что это за человек?! — и ты их таким образом пугать начинаешь, и от этого тебе очень-очень хорошо становится.
Помню, как меня следователь на крайних днях голодовки увидел, когда в СИЗО «Матросская Тишина» привезли, в больницу, и я, словно из Освенцима, выглядела. Потом, когда уже немного отъелась, потому что следствие заканчивалось и я есть начала, он признался: «Я реально тогда испугался — раньше такое только по телевизору видел», а ты живешь и ходишь, и при этом куча энергии у тебя, ты улыбаешься и радуешься тому, что когда они на тебя смотрят, чуть в обморок не падают. В этом какой-то драйв был, приятно было хоть что-то делать, своими методами бороться, потому что просто сидеть и непонятно чего ждать невыносимо.

Из книги Надежды Савченко «Сильне ім’я Надія».
«Голод триває 50-й день. СІЗО-1. Ну на лікарню це не схоже, тюрма тюрмою. Як завжди, моя камера після ремонту. Як завжди, дві відеокамери в ній дивляться на мене. Потрійні ґрати на вікні, Кін-Конга так можна утримувати! Із щастя — тільки душ в камері.
Коли голодуєш, вода дуже важлива. Пити потрібно не менше двох літрів на день. Шкіра дуже сохне і лущиться. В СІЗО-6 душ був раз на тиждень, 15 хвилин. В СІЗО-3 у Воронежі теж, тож я линяла, як дика собака, шкіра клаптями злазила. Зараз купаюсь двічі на день і натираюсь олією «Джонсонс Бейбі» — то трохи легше, хоч не чухаюсь, як блохаста. Лікарі і надалі міряють параметри щодня. Почали вже оглядати не тільки зранку, а й увечері, все запитують:
— Мочитесь нормально?
— Звичайно! Скільки випила, стільки й висцяла!
— Стул есть?
— Який тут стул?! Чим срати?! Не їм нічого вже 50 діб.
— Ой, плохо!
Дали проносне, і тут я дізналася, що таке геморой... Ой, штука неприємна! Думала, що вся пряма кишка випаде, поки в туалет схожу. Краще б ще 50 днів не ходила! Так хоч якась «дєрьмова» підкормка для організму була, хоч і не дуже корисна.
Опитування далі:
— Месячные ходят?
— Ходять, трясця б їх побрала, краще б їх не було, одна морока!
— Ой, что вы — это уже гормональные нарушения будут, это плохо!
На 50-й день голоду почали колоти... Колоти взялися серйозно: амінокислоти, амброзол (захист для шлунку), глюкозу з вітамінами. Хімія в судинах аж скрипіла, так дерла! Тіло все горить від долонь до мозку! Піднебіння теж все горить і сушить гірше, ніж спрага! Серце колотить! Вливали по літру-півтора за раз. Крапали за часом від 40 хвилин до півтори години. Лежиш, терпиш, сцяти хочеться, аж на очі не бачиш. Закололи вени в хлам — пішли вузли, почалася алергія. Почали ставити катетор у гроно руки. Всі судини і жили при наближенні лікарів почали ховатися глибоко в тіло, аж під кістки. Ще як яка медсестра коле... Як прийде якась неумьоха, так хоч вішайся!».
«Адвокаты просили: «Соберись, у нас еще суды», а я отвечала: «На черта мне ваши суды? — я уже сегодня домой в гробу поехать могу и буду свободна!»
— Кроме того, что вы офицер, вы еще и молодая красивая женщина — моменты самого натурального отчаяния в тюрьме были?
— Нет. В первый день, когда меня в камеру бросили и у меня критические дни были, страшно живот болел, я завыла. Не плакала, нет, просто маму, сестру вспомнила и на всю эту камеру заорала, а потом в себя пришла и решила: так, сегодня — спать, силы завтра понадобятся, и абсолютно спокойно держалась. Правда, в конце голодовки буквально от всего лихорадило, все бесило. Не отчаяние было, а, скорее, приступы бессильной ярости — побыстрее это закончить хотелось. Адвокаты просили: «Соберись, у нас еще суды», а я отвечала: «На черта мне ваши суды? — я уже сегодня домой в гробу поехать могу и буду свободна!». — «Нет, ты Украине нужна, ты символ...». «Ну, — думаю, — ладно, на новый этап борьбы себя запускаем, будем еще в судах веселиться».

— По поводу «домой в гробу поехать» — вы действительно умереть были готовы?
— Да каждую минуту — невелика проблема. Умирать не страшно...
— ...но жить-то хочется...
— Так, как там, — нет, смотря как жить, понимаете? Если 22 года в российской тюрьме, то не хочется, лучше умереть — выбрать свободу. Смерть — это же загадка, люди ее боятся, потому что не знают, что это и что там дальше, и точно так же с парашютом боятся прыгнуть — не представляют, как это. Мало ли, может, после смерти нас что-то более интересное ждет, вдруг на том свете лучше, чем на этом? Все же в рай верят и о нем говорят...
— ...и вы верите?
— Я вообще в сказки мало верю, хотя, конечно, есть в мире то, чего мы не понимаем. Как угодно это называйте — Богом, еще как-то, но мне кажется, то, что в 10 заповедях изложено, — это просто внутренняя совесть. Человек, даже не зная об этих заповедях, жить по ним может — никому не вредить, быть честным, а другой, прекрасно эти заповеди зная, в церковь ходит, поклоны бьет, но живет так, что только ад его и ждет. Для меня это такие условности... Да, людям чего-то, наверное, не хватает, и эту пустоту в душе верой они заполняют, но у меня достаточно в душе всего, чтобы не искать, чем пустоту заполнить.
— Адвокаты Полозов, Новиков и Фейгин достойно свои обязанности выполняли?
— Ну, во-первых, надо сказать, что тот, который до них был, — вообще не адвокат: просто человек, которого ко мне приставили, чтобы...
— ...наблюдать и докладывать...
— ...и делать вид, что он есть, — номинально, поэтому, конечно, профессионализм новых адвокатов приятно меня удивил. Стали какие-то статьи выходить, они как-то реагировать на все происходящее начали. Например, когда меня из Воронежа в Москву этапировали, в тюрьме видео сняли, а потом Life News продали. Обнаружив его где-то в интернете, адвокаты сразу же жалобу написали: мол, не имеете права, это все равно что камеру в туалете поставить, а потом с нее видео распространить...
— А что, и такое было?
— Пока нет, но, думаю, когда-то будет. Я, когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела, так там кадры из ее камеры были, причем срок она не в России, а в Украине отбывала, но все равно россиянам видео слили.
— Говорят, даже Янукович просматривать его любил...
— Ну, любил или нет, не знаю, но то, что она в камере делала, я по телевизору в России видела, плюс, как всегда, куча грязи шла... Смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?» (смеется).
Что угодно могут спокойно слить, ну а адвокаты реагировали на такие вещи оперативно. Им говорили, что виновные наказаны, хотя кто проверит, но адвокаты грамотные, линию защиты правильно выстроили — и доказательная база была, и освещение в СМИ, потому что мир должен знать, как суды в России проходят. Когда меня на видеосуды водили, я имела возможность на мониторе чужие процессы смотреть — ну, это то, что «без суда и следствия» называется. Допустим, дело лица кавказской национальности рассматривают: русского языка человек толком не знает, о чем речь, не понимает... Судья вошла, прокурор встал, обвинил, адвокат что-то там вякнула — все, виновен: буквально три минуты суд длился! Если бы у меня так было, возможности защититься я не имела бы. Все-таки у меня суды интересные были, веселые, показательные, поэтому я считаю, что мои адвокаты все сделали правильно — и доказательства моей невиновности собрали, и пиар обеспечили.
«Элла Памфилова — благочестивая стерва»
— Сотрудники ФСБ с вами работать пытались?
— До того, как в тюрьму упекли. Может, и в тюрьме бы продолжили, но я голодовку объявила (ко мне консула не пускали), и они поняли: дальше уже только следователи со мной будут общаться. Из ФСБ не приходили — из ОНК были (в этой Общественной наблюдательной комиссии, говорят, свои эфэсбэшники есть), чиновники со всякими там разговорами...
— ...за жизнь...
— ...ага, доставали — особенно после Минских соглашений, омбудсмен посетила — еще в Воронеже...
— ...Элла Памфилова?
— Да, когда голодовку я объявила из-за того, что нашего консула ко мне не пускали, она пришла.
— Что она, кстати, за человек?
— Благочестивая стерва.
— А когда-то демократом была — в 90-е...
— Она чиновник, причем пропутинский: не буду говорить, какая она мать, соседка и так далее: я этого знать не могу, но как политик — человек системы. Рассказываю ей, что меня выкрали и в чужую страну вывезли, а она сидит, смотрит на меня и деткам Донбасса сочувствует: мол, ах, как плохо, какая страшная у вас война. Я: «Так уйдите оттуда — и не будет у нас войны! Территорию нашу покиньте, оружие не везите, армию свою к нам не гоните — и все хорошо будет!», а она, как стеклянная: ты с ней говоришь, а она тебе о своем. Ну а после Минска уже по другому вопросу пришла — чтобы Украина не только в сторону Европы, но и в сторону России смотрела. К слову, и другие такие же чиновники об этом со мной говорили, понимая, что, по их же словам, «большое политическое будущее» меня ждет.


— Когда эфэсбэшники с вами беседовали, что предлагали? Может, завербовать пытались?
— Нет, надо понимать, что они тоже не дураки и все понимают. Пытаться завербовать можно того, кого завербовать реально, запугивать можно того, кто испугается, бить того, кто боли и побоев боится, а когда они видят, что убьешь, но не сломаешь, материала, с которым можно работать, для них нет. Попытки поговорить, про то, про се порасспрашивать были, в конце уже кто-то предлагал: «Может, когда в Украину вернешься, переговорщиком от своей страны станешь?». Легкие такие намеки: мол, мы же с тобой хорошо обращаемся, нам надо бы спасибо сказать... Если это и была вербовка, то очень слабая и бездарная, я ее не ощутила.
— Вам 22 года дали, а что вы почувствовали, когда поняли, что вас отпускают?
— Ну, я недоумевала, почему 22, спрашивала: «А чего не 25 или 30, что так слабо-то?», а что почувствовала... Меня предупреждали, что обмен будет, что на свободу я выйду: «Прекращай голодать, все решится», но, знаете, я никому и никогда там не верила. Верить там не приходится — каждый день все равно какое-то решение принимать нужно, потому что как ветер повеет, так ситуация и меняется...
— ...«повій, вітре, на Вкраїну»...
— ...да, и когда меня в три часа ночи начальник тюрьмы разбудил и сказал: «Собирайся!», я спросила: «Куда?». Он: «В Украину, домой». Я: «Ну да, так я вам и поверила. Может, в Сибирь?».
— Он так и сказал: «В Украину»?
— Тихо, шепотом, уверял, что все хорошо будет. Везли в «стакане» — это такая коробка закрытая, где заключенный сидит, затем в том «стакане» пять часов я прождала. Слышала, что в аэропорт доставили, техника какая-то работает, но как знать, куда лететь будем? Потом желто-синюю полосу на самолете увидела — и поняла: действительно в Украину летим, слава Богу...

— ...слава Украине!...
— ...героям слава! — но и то не расслабилась. Лететь, наверное, над зоной боевых действий придется, самолеты там иногда падают — чего угодно ждала. Когда высоту набирать начали, в голове у меня понемногу проясняться стало. Я в кабину к летчикам зашла, голову на спинку сиденья положила — и вперед смотрела, а как границу с Харьковской областью пересекли (таки не над зоной боевых действий, чтобы без приключений добраться), землю узнавать начала: будучи курсантом, я там летать училась — аэродромы знакомые, села... Тут до меня дошло: я в Украине! — и от счастья просто кричала (улыбается), я в украинском небе была!
— Я репортаж о том, как в Киев вы прилетели, смотрел. По взлетной полосе вы босиком прошли — почему?
— В тюрьме у меня вещи были — из дому передавали, кто-то из неравнодушных россиян что-то принес, но я там все оставила. Почему? На случай, если кого-то вот так же, как меня, без ничего в камеру бросят — ему нужнее, пусть это гуманитарная помощь будет, и с собой только то, что давно носила, взяла. Были у меня босоножки, но новые, поэтому их оставила — пускай кому-то не заношенное достанется, а в сапогах я год отходила, поэтому их и надела. Тогда еще жарко по утрам не было, а в самолете уже жару почувствовала, поэтому «валенки» эти сняла и босиком и по самолету, и по взлетной полосе ходила — уже и забыла, что те «валенки» у меня есть. Ну и потом, я очень люблю взлетную полосу ощущать — ее покрытие.
— Это правда, что когда вам медицинское обследование пройти предложили, вы из больницы сбежали?
— Здесь, в Украине?
— Да...
— Ну, не то чтобы сбежала — быстро прошла и сказала: «Все? Как видите, ничего катастрофического нет, со всем сама справлюсь». Я никогда лежать где-то не буду, чтобы меня жалели, даже если бы в самом тяжелом состоянии после голодовки вернулась, домой своими ногами пошла бы. Ну не лягу я в больницу, не чувствую себя аж такой больной, чтобы из тюрьмы выйти, а потом еще на больничную койку улечься, считаю, что своя земля и воля...
— ...лечат...
— ...да! Возможность решения самостоятельно принимать, жить, как тебе хочется, восстанавливает намного быстрее, чем больничный режим, где тебе лежать говорят — и ты лежишь, принимать пищу по графику велят — и этот график ты соблюдаешь.

«Верховная Рада — это «Титаник», идущий ко дну»
— Я также видео с вашей первой встречи с президентом смотрел — вы очень хмурой были и будто бы даже от него отворачивались: почему?
— Я и сейчас, если заметили, от него отворачиваюсь, потому что кто-то обманываться может, а я человека вижу — как говорится, зрю в корень. Я поблагодарила его за ту работу, которую он проделал, за то, что переговоры с Путиным вел и это результат дало, но знаю, что можно было больше сделать: не для меня — для всех остальных, и потом, пафосность этой ситуации раздражала: ах, сам президент... В присутствии каких-то звезд, повторяю, в обморок я не падаю.
— Ну вы и сами звезда...
— Нет, не звезда, а обычный человек, у которого чувство собственного достоинства есть, и мне абсолютно все равно, кто рядом стоит. Я, когда прилетела, вообще от людей шарахалась — только маму и сестру обнять приятно было, потому что и раньше их знала. Или друзей, которые на суды поддерживать меня приезжали, в трудную минуту рядом со мной находились, а президент — абсолютно чужой для меня человек, и ситуация в стране к тому, чтобы улыбаться, совсем не располагает. Я при виде великих не млею, понимаете? (Улыбается).
— Что вы сегодня о президенте думаете?
— После того как матери атошников голодали и на земле ночевали, а он даже «до их уровня не опустился», чтобы выйти и с ними поговорить либо к себе пригласить и там пообщаться, для меня президента в Украине больше нет.
— Вы народный депутат, и я примерно представляю, что вы почувствовали, впервые в этом зверинце оказавшись, но все же спрошу: что, на ваш взгляд, сегодняшняя Верховная Рада из себя представляет?
— Коротко? «Титаник», идущий ко дну, ничего хорошего. Грязь и болото — без совести.
— И ни одного человека нормального?
— Нормальные есть, но они... Понимаете, когда в первый раз туда я пришла, подумала: «Ну, не так уж все и плохо, можно работать», а когда присмотрелась, поняла, почему так решила. Человек, когда верит в то, что правду он говорит, искренним кажется, и я поняла, какая колоссальная между властью и народом пропасть, какая безумная разница в головах. Почему они думают, что действительно совесть имеют, и почему им так легко? Потому что для них пять миллионов, грубо говоря, безотносительно к кому-либо украсть — это пустяк, «разве это воровство? — я же не 25 украл!», а для простого человека это взрыв мозга, понимаете? Настолько ценности разные!..
Для нас 50 гривен, потраченные на обед, — это уже деньги, и когда я вижу, что в столовой пирожное 120 гривен стоит, колбасить меня начинает. Ну, может, это и нормально, потому что я два года отсидела, еще те, старые, цены помню, и меня вообще от всего колбасит, но мы с депутатами из разных миров. Они вроде бы и хорошие люди, просто верят в то, что так жить — это нормально. Оно-то, может, так и должно быть — что 120 гривен за пирожное не проблема, но проблема ведь в том, что все мы так не живем. Значит, понимать надо, что нормально — это когда все так живут, поэтому, еще раз повторю, такая между нами пропасть, что понять их мне трудно, разное у нас о норме понятие.

— Вы сказали, что вам противно в Верховной Раде работать из-за сплошной лжи и предательства, а вообще политика нравится?
— Если честно, пока понять не могу, что такое политика и для чего она нужна. Знаю, что есть государства и есть системы их устройства: людям нужно, чтобы ими управляли, а политика — это взаимодействие между органами, которые страной управляют, отдельный мир, который сам для себя существует. Я вот все в толк не возьму, зачем Украине политика — ей государственные деятели нужны, ей надо государство строить, над чем мы который год уже бьемся, а политика — это грязь, пиар, показуха...
— ...ради больших денег...
— ...точно, поэтому она мне не нравится.
— На прошлых президентских выборах вы за Яроша голосовали — почему?
— Во-первых, это после Майдана было, а во-вторых, в том списке в основном все старые политики были. Почему за Яроша? Потому что «Правый сектор» — это революционеры, молодые ребята...
— ...идейные...
— ...да, и я посмотреть хотела, насколько Украина к таким людям и переменам готова. Вот если так массово Майдан мы прочувствовали, что день и ночь там стояли, кто что мог приносили, даже бабушки старенькие последнее отдавали, жизнями за европейские ценности рисковали, то как сильно мы тех перемен хотим, за которые боремся? Увы, не готовы к ним оказались, потому что за то, что было сердцем Майдана и основной его движущей силой — радикальной, решительной, — не так много людей проголосовало. Большинство по инерции того, кого дольше знают, выбрало, не задумываясь, с какой стороны его знают — с хорошей или с плохой...
(Продолжение в следующем номере)

 Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...»
Праведница народов мира, спасшая семь человеческих жизней, София ЯРОВАЯ: «29 сентября 41-го года, когда евреев расстреливали, военнопленных из лагеря на улице Керосинной тоже пригнали в Бабий Яр — закапывать тела. Среди них был мой дядя — он говорил, что земля шевелилась...» Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?»
Надежда САВЧЕНКО: «Когда в российской тюрьме сидела, их «документальные фэнтэзи», в том числе про Юлию Тимошенко, смотрела и думала: «А когда обо мне такое покажут?» Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Коммунисты впервые утопию реальностью сделали, и почему это — красивая ведь мечта! — огромной братской могилой закончилось? Миллионы людей положили, и я вот понять хотела, почему страдания, которые на долю наших народов выпали, в свободу не конвертировались» Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»
Командир «Торнадо» Руслан ОНИЩЕНКО: «СБУ и военная прокуратура «вели» Пугачева и тупо подставили патрульных»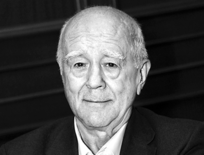 Метание понтов
Метание понтов Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!»
Шимон ПЕРЕС: «Друзья, у вас есть гораздо больше, чем вы думаете, гораздо больше, чем земля может вам предложить. Ваше молодое поколение великолепно, не будьте ленивы!» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги