Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Лукашенко — политическое животное, которое на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне, которых на Землю с монологами о свободе запустили»


(Продолжение. Начало в № 38, № 39, № 40)
«Мы, писатели, не так для власти опасны, как себе воображаем. Сейчас опасность для нее люди с деньгами представляют»
— В свое время вы школьникам немецкий язык преподавали, а сегодня им в совершенстве владеете?
— Нет, это было, когда я только школу окончила, и хороших учителей еще не хватало. Тогда, чтобы на факультет журналистики поступить, два года стажа требовалось — учительствовать только из-за этого стала...
— С начала 2000-х вы в эмиграции жили — в Италии, во Франции, в Швеции, в Германии. В Европе уютно себя чувствовали?
— В Европе интересно. Почему я уехала? За мной же никто с автоматом Калашникова не бегал... Да, кажется, что Лукашенко странно себя ведет, но, я думаю, это как раз не странность, просто мы, писатели, не так для власти опасны, как себе воображаем. Сейчас для нее опасность политики представляют, бизнесмены, то есть люди с деньгами: деньги и власть — вот что сегодня главное, поэтому, думаю, верхушку наш логоцентризм не пугает — сила растворилась, какое-то электричество из слов, можно сказать, ушло. Не помню, кажется Арнольд Тойнби (британский историк, культуролог социолог и философ. — Д. Г.), перефразируя Аристотеля, сказал (причем вовсе не уничижительно), что такой тип политиков есть — политическое животное, который на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Вот Лукашенко из них, и он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне такие, которых на Землю с монологами о свободе запустили.
— А свободы народ и не хочет — ему бы царя доброго...
— Нет, я не думаю, что народ такой глупый, он очень разный. Вот Вацлав Гавел нашему народу необходим был, и если бы Алесь Адамович так рано не умер, он мог бы сегодня белорусским Вацлавом Гавелом стать. Или Сахаров на месте Ельцина был бы, да? — все по другому пути пошло бы. Увы, какой-то рок вмешался...
— Я с вами не соглашусь: Сахаров на месте Ельцина не мог оказаться никак...
— Ну, не на месте Ельцина — идейным вдохновителем мог стать, ведь можно же было команду создать.
Не обязательно, чтобы вы роль Ельцина на себя брали и хребет системе ломали — во времена постсоветские другое ценилось и многое значило. Это сейчас деньги, чистоган, а тогда мы еще идеалистами были, тогда люди как-то верили. Даже если фотографии 90-х годов посмотреть...
— ...на них другие лица...
— Другие совершенно, и они больше, чем сегодняшние, мне нравятся.
— И все-таки из Европы домой вас тянуло? Ностальгию вы ощущали?
— Да, конечно. Я ведь со своим статусом в любой стране Европы остаться могла, но никогда этого не хотела, а уехала, потому что понимала: заложницей баррикадной культуры становлюсь.

Разговоры помню... Вот мы, писатели встречаемся, а тогда еще борьба с оппозицией шла, столкновения демонстрантов были, и мой коллега — инженер человеческих душ — с таким восторгом говорит: «Вот наши хлопцы этим милициянтам дали! — у них кровь текла», и тут еще я в больнице случайно (подругу навещала) увидела, как в одной палате мать милиционера и мать оппозиционера плакали — две деревенские бабы.
Это было ужасно, и как вам сказать... Конечно, без крови ничего почему-то у нас не получается, но я кровь не люблю и ее не хочу, и я была бы не в состоянии, наверное, кого-то на площадь позвать — туда, где кровь пролиться могла. Потому что я Алексиевич и защищена была бы, а эти мальчики как?
У меня тут вопрос внутренне не решенный, я бы не могла это сделать, поэтому политикой не занимаюсь. Мне на таком уровне вещи, во-первых, неинтересны — слишком просто, а во-вторых, это очень жестоко, я не могу человеческую смерть и человеческое страдание видеть, особенно сейчас.Пока пять книг «Красной утопии» написала, тысячи людей у меня перед глазами прошли, я так от всех этих видений устала — вот и решила за границу уехать, чтобы нормальное зрение себе вернуть.

Писателю цветной мир нужен, понимаете? Ну не хотела я на баррикаде сидеть, с которой только мишень видна, роль Демьяна Бедного, который свои агитки клепал, или Маяковского времен РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей — Д. Г.) меня не прельщала, мир для меня — это все-таки сложное творение. Я уехала, и действительно, зарубежные страны, особенно Италия, мой зрачок как бы расширили, я нормальное понимание каких-то вещей увидела, осознала, что жить можно иначе, всех на красных и белых не разделяя...
— Да просто жить!
— Но потом все-таки вернулась: родители умерли, внучке уже восемь лет было, и я решила, что жить с ними хочу.
— С 2013 года вы снова в Беларуси, в Минске — город за годы вашего отсутствия сильно изменился?
— Очень.
— Лучше стал?
— Намного — столько всего построено, столько сделано! Не знаю, правда, чьи там деньги работают, — говорят, Востока, Азии... Мы ничего не знаем о том, что в нашей стране происходит, но создано много...
— Свое мнение выскажу... Я иногда в Беларуси бываю и увиденное там просто не может не восхищать: по сравнению и с Украиной, и с Россией тем более, чисто, красиво. Газоны аккуратно подстрижены, фасады домов покрашены, дороги прекрасные, люди улыбаются, в магазинах продукты хорошие...
— Вы, видно, дальше Минска не ездите?
— Нет, нет, и в Гомеле был, и в Гродно...
— Ну, это города...
— Говорят, тем не менее, что и колхозы, и совхозы вполне преуспевают, предприятия продукцию выпускают, у людей работа имеется...
— Сложно... Предприятия сейчас два-три дня в неделю работают, люди копейки получают — все не так просто, потому что Путин воюет и денег нам не дает.
«Пойти за родину умирать — для этого люди все-таки найдутся, а вот от взятки отказаться гораздо сложнее, и то же самое с русской элитой произошло: испытание сталинским лагерем она выдержала лучше, чем долларом»
— В Белоруссии, вы недавно сказали, время остановилось — может, это и хорошо?

— Нет, мы так из истории выпадем. Ни проблема языка, ни проблема следующих поколений не решена — как только они появятся, слой умных ребят нарастет, на площадь они выйдут, свое мнение громко заявят, их тут же за границу выкинут. Это в лучшем случае, а тем, кто тут остается, жизнь поломают. Сейчас мы действительно в общем мире живем... Я не думаю, что в Украине все хорошо, от идеализма далека, но все-таки вы первые кардинально жизнь поменять решились.
— Дважды...
— Да, дважды — первый Майдан неудачей окончился, зато поколение второго Майдана вам дал, и это великое дело. Родители, может, Януковича и стерпели бы, а сыновья и дочери сказали: «Нет!». Думаю, это был голос именно молодежи, и я видела в Киево-Могилянской академии ребят, у которых глаза горят. У нас, конечно, все очень грустно, потому что тоталитаризм — это же не обязательно, что все в тюрьме сидят, — это когда тотальная зачистка идет и бал везде правит посредственность. Вот тогда время и останавливается...
— На мой взгляд, те два Майдана, которые у нас произошли, просто прощанием Украины с советской властью были...
— Это вы молодцы, первыми поднялись...
— И декоммунизация, которая сейчас по всей Украине проходит, когда памятники большевиcтским вампирам снимают, а также названия улиц, городов и сел меняют, — это какое-то освобождение от морока кровавого режима, правда?
— На постсоветском пространстве, особенно в России, осуждение этих процессов идет, поэтому, думаю, чем стремительнее и скорее вы все сделаете, тем шансов назад, в прошлое, возвратиться будет меньше. Вопрос очень важный: вот Ельцин этого не сделал, и через 20 лет Россию очень легко вспять повернули.
— Ну да, и снова в день смерти Сталина цветы к его постаментам несут...
— Ну, всегда ветераны найдутся, которые своей молодости, каким-то своим иллюзиям будут молиться. Хуже, что люди такие вещи, как, например, война с Украиной, приняли — для меня это совершенно непонятно, пусть бы уж цветы к памятникам Сталина носили... Мой отец, подозреваю, тоже понес бы, раз он похоронить в душе коммунизм не мог, но вот то, что убивать друг друга мы стали, — это, конечно, страшно. Меня потрясло, как быстро слой культуры стерся, как буквально в момент жестокие вещи вернулись. Вот Чехова можно не читать или забыть, что в школе читал, а целлофановый пакет на голове как пытка — это почему-то передается...
— ...генетически...
— Да, каким-то образом.
— Знаете, нам, конечно, сейчас нелегко — и война, и жуткая коррупция внутренняя на всех этажах власти, и, в общем-то, двойственная позиция Запада, и многое-многое другое. Как вы считаете, Украина, тем не менее, прорвется, от этого коммунистического ада уйдет или нет?
— Ну, я не Глоба, прогнозов не даю, но думаю — это совершенно очевидно! — что самый большой ваш враг даже не Путин, а именно коррупция, и справиться с ней очень трудно. Пойти за родину умирать — для этого люди все-таки найдутся, а вот от взятки отказаться гораздо сложнее, и то же самое с русской элитой произошло: испытание сталинским лагерем она выдержала лучше, чем долларом. Вот кто правду сейчас говорит? Пару человек только.
— Остальные пригреты...

— У всех какие-то материальные интересы или инстинкт страха есть — я так думаю... Когда у меня за границей о ситуации здесь спрашивают, всегда говорю, что Европа должна Украине помочь, причем не летальным оружием (или не только летальным), а экономически, потому что, если на ноги вы встанете, это и для русских людей, и для белорусов много значить будет, аргументом и для недругов станет. Вот это будет победа!
— Сегодня во всем мире очень много о Владимире Путине говорят, удивляются, на какую высоту этот некогда скромный парень из Санкт-Петербурга вознесен оказался. Ну, история такие примеры знает: и Сталин не семи пядей во лбу был, а что вы о Путине думаете?
— Любая эпоха каких-то своих героев находит, а наше время таких посредственностей на гребень выбрасывает... Я считаю, что демонизировать Путина незачем: дело не в нем, а в коллективном Путине — том, который есть в каждом. Путин желания миллионов русских людей аккумулировал, их несогласие с унижением, бедностью, с тем, что разворовали все...
— ...плюс тягу к империи материализовала...
— Да, и им почему-то невдомек, что страдают они не из-за происков Запада, не из-за коварства Америки, которую во всем винят. Кто бы такую огромную страну взвалить себе на горб и тащить мог? И вообще, империя так быстро из сознания не вытравливается...
— Что же такое, на ваш взгляд, русский мир, так широко Путиным разрекламированный?
— Это просто какая-то умозрительная идея, о которой, по-моему, уже забывать начинают, это попытка была то, что духовной скрепой называют, найти... Раньше о национальной идее говорили, теперь — о русском мире...
— ...а жить все хуже и хуже...
— Нет, я бы иначе сказала: а в это время втихую, под разговоры, разграбление огромной страны продолжается, и чем больше слов о патриотизме звучит, тем активнее, мне кажется, это происходит.
— Салтыкову-Щедрину фразу приписывают: «Что-то уж больно на патриотизм напирают: того и гляди — проворуются»...
— С тех пор ничего, увы, не изменилось — все то же...
«Что в русском котле варится, не знает никто — из-за плеч Путина еще пострашнее фигуры выглянуть могут»
— Ну а что с пропагандой российской делать, которая, с одной стороны, жуткая, а с другой — изощренно-грамотная? На ваш взгляд, противоядие от нее есть?
— Слушать это я не могу, но когда иногда телевизор включаю, думаю, что урок из опыта 90-х Кремль извлек. Тогда Ельцину и его команде надо было объяснять народу, что происходит, но никто этого не делал — думали, что демократия из ничего появляется, что от нашей беготни по улицам и восклицаний о свободе свобода родится. Этого, конечно, не произошло, но опыт тот их кое-чему научил, и сейчас они себе пропагандистское сопровождение обеспечили. Думаю, это по отношению ко всем нам преступление.
— Хотя вы не Глоба, тем не менее много понимаете, видите. Что с Россией в ближайшее время, по-вашему, будет?
— Что в русском котле варится, не знает никто — думаю, может быть, все, и из-за плеч Путина еще пострашнее фигуры выглянуть могут.
— Вы в Украине в семье белоруса и украинки родились, и в России, и в Белоруссии, и в Европе жили, а родина ваша сегодня где?
— Понятие родины к географии не сводится, да — хотя расположение родного дома, эта точка на карте много для всех нас значит. Я люблю в Белоруссии жить, мне ее спокойные пейзажи нравятся, а особенно старики деревенские — так еще с детства, наверное, повелось. Бродский на этот вопрос проще отвечал, он родиной поэта язык называл, а я думаю, что моя родина — мысль.
— Вы свою родину любите?
— Какую? Я люблю мир, человека...
— Окончив факультет журналистики Белорусского государственного университета, вы в районную газету с экзотическим сегодня названием «Маяк коммунизма» попали. Писатель все впечатления в торбу складывает — интересно, вам работа в «Маяке коммунизма» что-нибудь для последующего писательства дала?
— Там я даже года, по-моему, не задержалась, но мне этот маленький городок Береза Брестской области вспоминается, а больше всего поездки по колхозам помнятся — много по ним колесить приходилось. Боже мой, как тяжело люди работали! Особенно женщины — лен руками они рвали. Вот это, наверное, главное впечатление было: как тяжело наш народ живет.
— Жизнь — сплошное страдание, да?

— Можно сказать, что у нас цивилизация страданий, — это главный продукт, который мы производим. Я постоянно вопрос себе задаю, на который до сих пор ответа у меня нет: почему наши страдания в свободу не конвертируются, ну почему? Неизвестно...
Из книги Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».
«— Всю жизнь руки по швам! Не смел пикнуть. Теперь расскажу...
В детстве... как себя помню... я боялся потерять папу... Пап забирали ночью, и они исчезали в никуда. Так пропал мамин родной брат Феликс... Музыкант. Его взяли за глупость... за ерунду... В магазине он громко сказал жене: «Вот уже 20 лет советской власти, а приличных штанов в продаже нет». Сейчас пишут, что все были против... А я скажу, что народ поддерживал посадки. Взять нашу маму... У нее сидел брат, а она говорила: «С нашим Феликсом произошла ошибка. Должны разобраться. Но сажать надо, вон сколько безобразий творится вокруг». Народ поддерживал...
Война! После войны я боялся вспоминать войну... Свою войну... Хотел в партию вступить — не приняли: «Какой ты коммунист, если ты был в гетто?». Молчал... молчал... Была в нашем партизанском отряде Розочка, красивая еврейская девочка, книжки с собой возила. 16 лет. Командиры спали с ней по очереди... «У нее там еще детские волосики... Ха-ха...». Розочка забеременела... Отвели подальше в лес и пристрелили, как собачку. Дети рождались, понятное дело, полный лес здоровых мужиков. Практика была такая: ребенок родится — его сразу отдают в деревню. На хутор. А кто возьмет еврейское дитя? Евреи рожать не имели права. Я вернулся с задания: «Где Розочка?». — «А тебе что? Этой нет — другую найдут». Сотни евреев, убежавших из гетто, бродили по лесам. Крестьяне их ловили, выдавали немцам за пуд муки, за килограмм сахара. Напишите... я долго молчал... Еврей всю жизнь чего-то боится. Куда бы камень не упал, но еврея заденет.
Уйти из горящего Минска мы не успели из-за бабушки... Бабушка видела немцев в 18-м году и всех убеждала, что немцы — культурная нация и мирных людей не тронут. У них в доме квартировал немецкий офицер, каждый вечер он играл на пианино. Мама начала сомневаться: уходить — не уходить? Из-за этого пианино, конечно... Так мы потеряли много времени. Немецкие мотоциклисты въехали в город. Какие-то люди в вышитых сорочках встречали их с хлебом-солью. С радостью. Нашлось много людей, которые думали: вот пришли немцы, и начнется нормальная жизнь. Многие ненавидели Сталина и перестали это скрывать. В первые дни войны было столько нового и непонятного...
Слово «жид» я услышал в первые дни войны... Наши соседи начали стучать нам в дверь и кричать: «Все, жиды, конец вам! За Христа ответите!». Я был советский мальчик. Окончил пять классов, мне 12 лет. Я не мог понять, что они говорят. Почему они так говорят? Я и сейчас этого не понимаю... У нас семья была смешанная: папа — еврей, мама — русская. Мы праздновали Пасху, но особенным образом: мама говорила, что сегодня день рождения хорошего человека. Пекла пирог. А на Пейсах (когда Господь помиловал евреев) отец приносил от бабушки мацу. Но время было такое, что это никак не афишировалось... надо было молчать...
Мама пришила нам всем желтые звезды... Несколько дней никто не мог выйти из дома. Было стыдно... Я уже старый, но я помню это чувство... Как было стыдно... Всюду в городе валялись листовки: «Ликвидируйте комиссаров и жидов», «Спасите Россию от власти жидобольшевиков». Одну листовку подсунули нам под дверь... Скоро... да... Поползли слухи: американские евреи собирают золото, чтобы выкупить всех евреев и перевезти в Америку. Немцы любят порядок и не любят евреев, поэтому евреям придется пережить войну в гетто... Люди искали смысл в том, что происходит... какую-то нить... Даже ад человек хочет понять.
Помню... Я хорошо помню, как мы переселялись в гетто. Тысячи евреев шли по городу... с детьми, с подушками... Я взял с собой, это смешно, свою коллекцию бабочек. Это смешно сейчас... Минчане высыпали на тротуары: одни смотрели на нас с любопытством, другие со злорадством, но некоторые стояли заплаканные. Я мало оглядывался по сторонам, я боялся увидеть кого-нибудь из знакомых мальчиков. Было стыдно... постоянное чувство стыда помню...
Мама сняла с руки обручальное кольцо, завернула в носовой платок и сказала, куда идти. Я пролез ночью под проволокой... В условленном месте меня ждала женщина, я отдал ей кольцо, а она насыпала мне муки. Утром мы увидели, что вместо муки я принес мел. Побелку. Так ушло мамино кольцо. Других дорогих вещей у нас не было... Стали пухнуть от голода... Возле гетто дежурили крестьяне с большими мешками. День и ночь. Ждали очередного погрома. Когда евреев увозили на расстрел, их впускали грабить покинутые дома. Полицаи искали дорогие вещи, а крестьяне складывали в мешки все, что находили. «Вам уже ничего не надо будет», — говорили они нам.
Однажды гетто притихло, как перед погромом. Хотя не раздалось ни одного выстрела. В тот день не стреляли... Машины... много машин... Из машин выгружались дети в хороших костюмчиках и ботиночках, женщины в белых передниках, мужчины с дорогими чемоданами. Шикарные были чемоданы! Все говорили по-немецки. Конвоиры и охранники растерялись, особенно полицаи, они не кричали, никого не били дубинками, не спускали с поводков рычащих собак. Спектакль... театр... Это было похоже на спектакль... В этот же день мы узнали, что это привезли евреев из Европы. Их стали звать «гамбургские» евреи, потому что большинство из них прибыло из Гамбурга. Они были дисциплинированные, послушные. Не хитрили, не обманывали охрану, не прятались в тайниках... они были обречены... На нас они смотрели свысока. Мы бедные, плохо одетые. Мы другие... не говорили по-немецки...
Всех их расстреляли. Десятки тысяч...
Этот день... все как в тумане... Как нас выгнали из дома? Как везли? Помню большое поле возле леса... Выбрали сильных мужчин и приказали им рыть две ямы. Глубокие. А мы стояли и ждали. Первыми маленьких детей побросали в одну яму... и стали закапывать... Родители не плакали и не просили. Была тишина. Почему, спросите? Я думал... Если на человека напал волк, человек же не будет его просить, умолять оставить ему жизнь. Или дикий кабан напал... Немцы заглядывали в яму и смеялись, бросали туда конфеты. Полицаи пьяные в стельку... у них полные карманы часов... Закопали детей... И приказали всем прыгать в другую яму. Стоим мама, папа, я и сестренка. Подошла наша очередь... Немец, который командовал, он понял, что мама русская, и показал рукой: «А ты иди». Папа кричит маме: «Беги!». А мама цеплялась за папу, за меня: «Я с вами». Мы все ее отталкивали... просили уйти... Мама первая прыгнула в яму...
Это все, что я помню... Пришел в сознание от того, что кто-то сильно ударил меня по ноге чем-то острым. От боли я вскрикнул. Услышал шепот: «А тут один живой». Мужики с лопатами рылись в яме и снимали с убитых сапоги, ботинки... все, что можно было снять... Помогли мне вылезти наверх. Я сел на край ямы и ждал... ждал... Шел дождь. Земля была теплая-теплая. Мне отрезали кусок хлеба: «Беги, жиденок. Может, спасешься».
Деревня была пустая... Ни одного человека, а дома целые. Хотелось есть, но попросить было не у кого. Так и ходил один. На дороге то резиновый бот валяется, то галоши... косынка... За церковью увидел обгоревших людей. Черные трупы. Пахло бензином и жареным... Убежал назад в лес. Питался грибами и ягодами. Один раз встретил старика, который заготавливал дрова. Старик дал мне два яйца. «В деревню, — предупредил, — не заходи. Мужики скрутят и сдадут в комендатуру. Недавно двух жидовочек так поймали».
Однажды заснул и проснулся от выстрела над головой. Вскочил: «Немцы?». На конях сидели молодые хлопцы. Партизаны! Они посмеялись и стали спорить между собой: «А жиденыш нам зачем? Давай...». — «Пускай командир решает». Привели меня в отряд, посадили в отдельную землянку. Поставили часового... Вызвали на допрос: «Как ты оказался в расположении отряда? Кто послал?». — «Никто меня не посылал. Я из расстрельной ямы вылез». — «А может, ты шпион?». Дали два раза по морде и кинули назад в землянку. К вечеру впихнули ко мне еще двоих молодых мужчин, тоже евреев, были они в хороших кожаных куртках. От них я узнал, что евреев в отряд без оружия не берут. Если нет оружия, то надо принести золото. Золотую вещь. У них были с собой золотые часы и портсигар — даже показали мне, — они требовали встречи с командиром. Скоро их увели. Больше я их никогда не встречал... А золотой портсигар увидел потом у нашего командира... и кожаную куртку... Меня спас папин знакомый, дядя Яша. Он был сапожник, а сапожники ценились в отряде, как врачи. Я стал ему помогать...
Первый совет дяди Яши: «Поменяй фамилию». Моя фамилия Фридман... Я стал Ломейко... Второй совет: «Молчи. А то получишь пулю в спину. За еврея никто отвечать не будет». Так оно и было... Война — это болото, легко влезть и трудно вылезти. Другая еврейская поговорка: когда дует сильный ветер, выше всего поднимается мусор. Нацистская пропаганда заразила всех, партизаны были антисемитски настроены. Нас, евреев, было в отряде 11 человек... потом пять... Специально при нас заводились разговоры: «Ну какие вы вояки? Вас, как овец, ведут на убой...», «Жиды трусливые...».
Я молчал. Был у меня боевой друг, отчаянный парень... Давид Гринберг... он им отвечал. Спорил. Его убили выстрелом в спину. Я знаю, кто убил. Сегодня он герой — ходит с орденами. Геройствует! Двоих евреев убили якобы за сон на посту... Еще одного — за новенький парабеллум... позавидовали... Куда бежать? В гетто? Я хотел защищать родину... отомстить за родных... А родина? У партизанских командиров были секретные инструкции из Москвы: евреям не доверять, в отряд не брать, уничтожать. Нас считали предателями. Теперь мы об этом узнали благодаря перестройке.
Приказ: сжечь хату полицая... Вместе с семьей... Семья большая: жена, трое детей, дед, баба. Ночью окружили их... забили дверь гвоздями... Облили керосином и подожгли. Кричали они там, голосили. Мальчишка лезет через окно... Один партизан хотел его пристрелить, а другой не дал. Закинули назад в костер. Мне 14 лет... Я ничего не понимаю... Все, что я смог, — запомнил это. И вот рассказал... Не люблю слова «герой»... героев на войне нет... Если человек взял в руки оружие, он уже не будет хорошим. У него не получится.
Помню, немцы решили очистить свои тылы и дивизии СС бросили против партизан. Навешали фонарей на парашютах и бомбили нас день и ночь. После бомбежки — минометный обстрел. Отряд уходил небольшими группами, раненых увозили с собой, но закрывали им рот, а лошадям надевали специальные намордники. Бросали все, бросали домашний скот, а он бежал за людьми. Коровы, овечки... Приходилось расстреливать... Немцы подошли близко, так близко, что уже слышны были их голоса: «о мутер, о мутер»... запах сигарет... У каждого из нас хранился последний патрон... Но умереть никогда не опоздаешь. Ночью мы... трое нас осталось из группы прикрытия... вспороли брюхо убитым лошадям, выкинули все оттуда, и сами туда залезли. Просидели так двое суток, слышали, как немцы ходили туда-сюда. Постреливали. Наконец наступила полная тишина. Тогда мы вылезли: все в крови, в кишках... в говне... Полоумные. Ночь... луна светит...
Птицы, я вам скажу, нам тоже помогали... Сорока услышит чужого человека — обязательно закричит. Подаст сигнал. К нам они привыкли, а немцы пахли по-другому: у них одеколон, душистое мыло, сигареты, шинели из отличного солдатского сукна... и хорошо смазанные сапоги... У нас самодельный табак, обмотки, лапти из воловьей шкуры, прикрученные к ногам ремешками. У них шерстяное нательное белье... Мертвых мы раздевали до трусов! Собаки грызли их лица, руки. Даже животных втянули в войну...
Много лет прошло... полвека... А ее не забыл... эту женщину... У нее было двое детей. Маленьких. Она спрятала в погребе раненого партизана. Кто-то донес... Семью повесили посредине деревни. Детей первыми... Как она кричала! Так люди не кричат... так звери кричат... Должен ли человек идти на такие жертвы? Я не знаю. (Молчит). Пишут сейчас о войне те, кто там не был. Я не читаю... Вы не обижайтесь, но я не читаю...
Минск освободили... Для меня война кончилась, в армию по возрасту не взяли. 15 лет. Где жить? В нашей квартире поселились чужие люди. Гнали меня: «Жид пархатый...». Ничего не хотели отдавать: ни квартиры, ни вещей. Привыкли к мысли, что евреи не вернутся никогда...
После войны люди уже не те были. Я сам вернулся домой остервенелый.
Сталин не любил наше поколение. Ненавидел. За то, что свободу почувствовали. Война — это была свобода для нас! Мы побывали в Европе, увидели, как там люди живут. Я шел на работу мимо памятника Сталину, и меня холодный пот пробивал: а вдруг он знает, о чем я думаю?
— «Назад! В стойло!» — сказали нам. И мы пошли».
***
— Все забыла... и любовь забыла... А войну помню...
Два года в партизанах. В лесу. После войны лет семь... восемь... вообще не могла на мужчин смотреть. Насмотрелась! Была такая апатия. Поехали с сестрой в санаторий... За ней ухаживают, она танцует, а я хотела покоя. Поздно замуж вышла. Муж был младше меня на пять лет. Как девочка, был.
***
Ушла на фронт, потому что верила всему, что писала газета «Правда». Стреляла. Страстное было желание — убивать! Убивать! Раньше хотела все забыть, но не могла, а теперь оно само забывается. Одно помню, что смерть на войне по-другому пахнет... запах убийства особенный... Когда не много, а один человек лежит, начинаешь думать: кто он? откуда? его же кто-то ждет...
***
Под Варшавой... Старая полька принесла мне мужнину одежду: «Сними с себя все. Я постираю. Почему вы такие грязные и худые? Как вы победили?». Как мы победили?! Победили — да. Но наша великая победа не сделала нашу страну великой.
Что осталось в памяти? Самое обидное было то, что немцы нас презирали. Как мы жили... наш быт... Гитлер называл славян кроликами...
Немцы приехали в нашу деревню. Весна. На следующий день они стали делать клумбу и строить туалет.
Старики до сих пор вспоминают, как немцы цветы садили...
***
В Германии... Мы заходили в дома: в шкафах много добротной одежды, белье, безделушки. Горы посуды. А до войны нам говорили, что они страдают при капитализме. Смотрели и молчали. Попробуй похвалить немецкую зажигалку или велосипед. Загремишь по 58-й статье за «антисоветскую пропаганду». В один момент... Разрешили отправлять посылки домой: генералу — 15 килограммов, офицеру — 10, солдату — пять. Почту завалили. Мать пишет: «Посылок не надо. Из-за твоих посылок нас убьют». Я им зажигалки послал, часы, шелковый отрез... Шоколадные большие конфеты... они подумали, что это мыло...
***
— Не трахнутых немок от 10 до 80 не было! Так что родившиеся там в 46-м — это «русский народ».
***
Вот она — победа! Победа! Всю войну люди фантазировали, как хорошо они будут жить после войны. Два-три дня попраздновали. А потом захотелось что-то есть, надо что-то надеть. Жить захотелось. А ничего нет. Все ходили в немецкой форме. И взрослые, и дети. Шили-перешивали. Хлеб давали по карточкам, очереди километровые. Озлобление повисло в воздухе. Человека могли убить просто так.
***
Помню... весь день грохот... Инвалиды ездили на самодельных платформах на шарикоподшипниках. А мостовые — булыжные. Жили они в подвалах и полуподвалах. Пили, валялись в канавах. Попрошайничали. Ордена меняли на водку. Подъедут к очереди и просят: «Дайте купить хлебушек». В очереди одни усталые женщины: «Ты —живой. А мой в могиле лежит». Гнали их. Стали немного лучше жить, вообще запрезирали инвалидов. Никто не хотел войну вспоминать. Уже все были заняты жизнью, а не войной. В один день их убрали из города. Милиционеры вылавливали их и забрасывали в машины, как поросят. Мат... визг... писк...
***
А у нас в городе был Дом инвалидов. Молодежь без рук, без ног. Все с орденами. Их разрешили разобрать по домам... официальное было разрешение... Бабы соскучились по мужской ласке и кинулись их забирать: кто на тачке везет, кто в детской коляске. Хотелось, чтобы в доме мужиком запахло, чтобы повесить мужскую рубаху на веревке во дворе. Скоро повезли их назад... Это же не игрушка... и не кино. Попробуй этот кусок мужчины полюбить. Он злой, обиженный, он знает, что его предали.
Этот день Победы...».
«Не зря русский народ говорит о себе, что из него и дубину можно сделать, и икону — все от пастырей, от поводырей зависит...»
— В Нобелевской лекции вы сказали: «Я жила в стране, где с детства учили умирать, говорили, что человек существует, чтобы пожертвовать собой», в одном из интервью вы также утверждали: «Наша история — море крови и братская могила». Почему же такой безмолвный и рабский у нас народ, скажите? Русский, белорусский, да и украинский во многом тоже — ну что это такое?
— Вы знаете, спрашивать так: что это такое? — не стоит, это, отвечу, опыт, генетическое и какое хотите наслоение вот того страдания из поколения в поколение (началось-то все не в советский период, а в царские времена). Это история. Народ — это его история.
— Рабы мы?
— Ну, у вас и вопросы. А вы раб?
— Думаю, нет, но ошибиться боюсь...
— Так говорить нельзя — в человеке много всего, он очень разноцветный. Понимаете, вытащить из него одно или другое можно: допустим, любовь — ненависть. Не зря же русский народ говорит о себе, что из него и дубину можно сделать, и икону — все от пастырей, от поводырей зависит...
— ...а они — плоть от плоти народа...
— Ну, надо бы, чтобы они все-таки Вацлавами Гавелами были.
— С человеком вроде разобрались, а в народе вы не разочаровались?
— Ну а как можно в народе разочароваться? Кого-то я люблю, кого-то нет, но народ — это же не кусок торта или металла какого-то, он очень разнороден.
— Я вас иначе спрошу: народы, избирающие Путина и Лукашенко, уважения достойны?
— Даже не знаю, они это избирают или так считают. В нашей системе вы никогда не разбираете, кто за что отвечает, и что на самом деле там происходит, неизвестно. Понимаете, у народа одна жизнь, а наверху другая, почти военная, поэтому мы все время в каком-то состоянии мобилизационном...
— У нас в Украине недавно архивы КГБ открыли, и любой желающий может сегодня прийти, любые материалы взять...
— Хорошее дело сделали...
— Очень хорошее. Я вот пошел и дела расстрелянных и репрессированных в 37-39-м годах посмотрел. Читал и все отчетливее понимал, что от этой ужасной правды можно просто с ума сойти: как это происходило, видишь перед глазами — фотографии арестованных, письма, личные вещи, доносы соседей... Об этом сегодня мало кто знает...
— А вы заметили, сколько в тех доносах ошибок? Безграмотные совершенно. Человека по оговору расстреляли, а там 32 ошибки.
— И следователи не шибко грамотные были, а других-то где взять? После того как эти дела посмотришь, ужасное впечатление остается, а ведь только по Украине под каток репрессий миллионы людей попали. Вопрос к вам как к инженеру человеческих душ: мы когда-нибудь всю правду узнаем?
— О себе?
— О себе, о нас...
— Вряд ли уже к этому мы готовы. Думаю, Ельцин потому на суд над Компартией и не пошел, что общество еще не созрело.
— В то время — точно...
— Процесс гражданской войной мог закончиться — в общем, я не уверена, что общество готово... Разве что ваше на волне патриотизма это пережить может, но я вот думаю: а что с белорусами было бы? Не знаю, и представить это вообще-то страшновато.
— Сегодня я российское телевидение смотрю...
— Несчастный, я вам сочувствую.
— Наоборот, это даже удовольствие мне доставляет, и для анализа тоже пища большая, а вы обратили внимание, как агрессивно себя русская православная церковь ведет?
— Да.
— Религия — опиум для народа?
— Нет, я с этим утверждением не согласна — другое дело, надо не вообще о религии говорить, а о патриархе Кирилле, о сегодняшней русской церкви, понимаете? Сама по себе религиозность — это какое-то очень высокое, сложное чувство, и я бы даже сказала, что она в нашей природе, и когда у меня, например, сестра умерла, мне, полному атеисту, ничего другого не оставалось, как в церковь идти и на небо смотреть — больше некуда. Вот вам и весь атеизм. Или когда я на войне в Афганистане была... Вы знаете, как черт-те где помирать неохота? — это страшно, бессмысленно! Ну да, книжка будет, но столько собой занималась, столько делала — и вдруг нелепо так помереть... Вот черт, почему?
— О себе молились?
— Художник иначе молится. Ты просто вообще о небесах думаешь: что там — никто не знает.
«Цивилизация нам дополнительные 20-30 лет подарила, а философии этого нового куска жизни нет — как эти годы прожить. Просто на грядках их просидеть и внуков нянчить недостаточно»
— Частную жизнь свою вы в секрете держите — я, во всяком случае, о ней ничего не читал...
— Ну а почему это на продажу нужно выносить?
— Логично, но когда вы просто писателем были, пусть и очень известным, — это одно, а сегодня вы — лауреат Нобелевской премии (хорошо звучит, правда? Лауреат Нобелевской премии!), и, в общем-то, вопросы закономерены: кто муж? кто дети? внуки? чем они занимаются?
— Дочка в колледже немецкий язык преподает...
— Начали с дочки, не с мужа...
— Потому что все это давно было. Маленькая внучка Яночка есть — моя подружка.
— Обе в Минске живут?
— Да.
— О чем с внучкой вы разговариваете? Серьезные темы затрагиваете?
— Когда она еще дошколенком была (это к тому, как мы дружим), я в Германии жила и в гости ее позвала. Внучка в детский сад пришла и объявила, что в Германию едет. Все спрашивают: «К тете?». — «Нет». — «К бабушке?». — «Нет». — «Ну а к кому?». — «К Свете, а бабушка у меня в деревне живет». Вот такие у нас отношения!
— О чем вы сейчас пишете? Что вам интересно, что вас волнует?
— Интересуют уже не социальные, а метафизические вещи, и в планах две книги — надеюсь, что с ними справлюсь. О любви, увиденной глазами мужчины и женщины, и о старости, поскольку цивилизация нам дополнительные 20-30 лет подарила, а философии этого нового куска жизни нет — своей личной философии, как эти лета прожить. Просто на грядках их просидеть и внуков нянчить недостаточно — что-то еще же нужно. В Европе вот люди в 80 лет рисовать, петь начинают...
— ...в интернете зависают...

— ...и это замечательно. Жизнь-то не кончается, она и так короткая — зачем же ее еще укорачивать?
— Вы понимаете, что ваши новые книги все будут теперь через увеличительные стекла рассматривать? «Ну-ка, ну-ка, чего же это там нобелевский лауреат написал? Халтурить не стала?»...
— Да Бог с ними! — пусть что хотят делают: собаки лают — караван идет. Работу свою в меру отпущенных тебе сил и таланта делать надо, и чтобы жить было интересно — вот мой девиз, а что до косых взглядов и чьих-то скептических слов... Мне буквально с рождения кто-то что-то периодически говорил — ну и что?
— Вы фактически всю жизнь с чужой болью живете, через себя столько страданий и горя пропустили, что на весь Союз писателей с лихвой хватит, — это как-то на вас повлияло?
— Я, честно говоря, не люблю, когда мне этот вопрос задают. Скажите, а разве детский хирург-онколог менее мучительно живет? Почему писатель на каком-то пьедестале должен быть, почему его особым существом считать надо? Просто профессия у меня такая — в нее некая степень риска, нечеловеческого напряжения входит, но она есть у многих: у военных, у спасателей.
— Знание это лучше или хуже вас сделало?
— Откуда я знаю? Никто из нас не ведает, кто он есть. В «Блокадной книге», которую вы вспоминали, рассказ одного профессора есть о том, как он во время блокады у детей хлеб выхватывал, и из-за этого они умерли — у него их, по-моему, трое было. Разве мог он, в здравом уме находясь, предположить, что на это способен? Никто из нас себя не знает, поэтому нечего таким самонадеянным быть.
— Светлана Александровна, вы счастливы?
— Думаю, да. Не скажу, что всю жизнь, но достаточно много лет я занимаюсь тем, чем хочу, и поступаю так, как хочу, то есть я человек свободный, но все-таки не такая идиотка, чтобы сказать: «Я счастливая!». Трагизм в самой нашей жизни заложен, потому что этот свет когда-нибудь оставить придется, — от этой мысли все-таки грустно.
— Нет, заканчивать на такой минорной ноте нельзя...
— Ну тогда мажор дайте...
— Сегодня какой-то оптимизм у вас есть? Вы свет в конце этого тоннеля видите?
— Мне интересно жить, а какой вам оптимизм нужен — аптекарский?
— Ну вот и свет, собственно! Спасибо вам большое...
— Да не за что.

 Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Лукашенко — политическое животное, которое на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне, которых на Землю с монологами о свободе запустили»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Лукашенко — политическое животное, которое на уровне инстинктов чувствует, куда ветер дует. Он сильнее нас, сильнее оппозиции оказался, поскольку с народом на одном языке говорит, а мы — инопланетяне, которых на Землю с монологами о свободе запустили» Надежда САВЧЕНКО: «От любви до ненависти один шаг, и еще в первый после освобождения день я сказала: «Сегодня вы мне цветы дарите, а завтра в меня камнями швырять будете». Яйца уже летят, камни пока нет, но, думаю, могут полететь и гранаты»
Надежда САВЧЕНКО: «От любви до ненависти один шаг, и еще в первый после освобождения день я сказала: «Сегодня вы мне цветы дарите, а завтра в меня камнями швырять будете». Яйца уже летят, камни пока нет, но, думаю, могут полететь и гранаты» Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Гей-парады и прочее — это хорошо, но давайте ЖЭКами займемся, диспетчерскими!»
Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО: «Гей-парады и прочее — это хорошо, но давайте ЖЭКами займемся, диспетчерскими!» Директор Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова Олег НЕПОМНЯЩИЙ: «Мужики на Аллу все время смотрели — вот не оторвешь взгляд от безумных зеленых глаз, от конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...»
Директор Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Владимира Преснякова и Филиппа Киркорова Олег НЕПОМНЯЩИЙ: «Мужики на Аллу все время смотрели — вот не оторвешь взгляд от безумных зеленых глаз, от конопушек, копны рыжих волос. Все натуральное, естественное, а сама хорошенькая, замечательно сложена, простенько так одета...»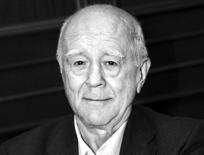 Трагедии ХХ века многому учат
Трагедии ХХ века многому учат Дмитрий БЫКОВ: «Склероз российский грозен и вынослив: никто не помнит точек болевых, забыли все, кем были в девяностых, забыли все, кем стали в нулевых, не помнят слов своих, чужих не помнят, начнут припоминать — теряют нить; порой штаны от ужаса наполнят — и ходят, не подумавши сменить»
Дмитрий БЫКОВ: «Склероз российский грозен и вынослив: никто не помнит точек болевых, забыли все, кем были в девяностых, забыли все, кем стали в нулевых, не помнят слов своих, чужих не помнят, начнут припоминать — теряют нить; порой штаны от ужаса наполнят — и ходят, не подумавши сменить» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги