Елена ОБРАЗЦОВА: «Хочу сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть»


Еще 28 веков назад Гомер ломал голову над тем, как же Елену Прекрасную, из-за которой Троянская война началась, описать, чтобы все поняли: она была неотразима. Кожу белее снега воспеть? Но в некоторых краях обожают смуглянок. Сравнить тонкий стан с тростинкой? Однако многие племена именно пышные формы ценят. Соболиными бровями восхититься? Так кое-где в угоду моде их вовсе выщипывают... Слишком уж у разных народов каноны красоты отличаются, и все-таки универсальную формулу древнегреческий поэт нашел: когда Елена Прекрасная проходила мимо, старцы вставали... Вот и я с восторженными эпитетами «немеркнущая звезда», «большой голос Большого театра», «легенда» и «femme fatale русской оперы» мудрить не стану, скажу просто: когда Елена Образцова, о которой недавно документальный фильм «Елена Прекрасная» сняли, на сцену любой оперы мира выходит, зал от мала до велика вставал...
Концертмейстер великой певицы Важа Чачава собирался уже написать о ней книгу, но, подумав, от этой затеи вдруг отказался. «Почему?» — удивилась Елена Васильевна. «Все равно мне никто не поверит», — вздохнул он, и действительно, ее жизни, наполненной музыкой, любовью и страстью, с лихвой хватит на несколько голливудских фильмов — достаточно сказать, что петь ей приходилось со сломанной рукой, загипсованной ногой, полуслепой, а какой бы сценарист рискнул живописать, как оперная дива спускается с трапа самолета к поклонникам с авоськой, в которой лежат ноты? Для Образцовой же это естественно было: мол, даже если багаж потеряется, концерт все равно состоится.
Для государственной казны Елена Васильевна не один миллион заработала (в валюте, естественно) — видимо, за это советская власть и ношение крестика ей прощала, и непролетарское происхождение, ведь первые свои годы будущая примадонна провела в питерской огромной 10-комнатной квартире дедушки. В их семье до сих пор вспоминают, как он, будучи директором какой-то фабрики, чемодан с зарплатой для работников забыл в поезде. Деньги, естественно, никто не вернул, и тогда бабушка отнесла свои бриллианты в «Торгсин» — расплатиться благодаря этому удалось со всеми.
Отец певицы, заместитель министра тяжелого машиностроения СССР, протолкнуть дочку на сцену отнюдь не пытался — в те годы умные люди, пережившие сталинские репрессии, предпочитали давать детям другие профессии. Свою Леночку Василий Образцов даже к главному дирижеру Ленинградской капеллы Александру Анисимову отвел, и, прослушав девочку, корифей, как и было условлено, авторитетно заявил: «Петь тебе не надо — лучше чем-то более практичным заняться», но она думала иначе и втайне от родителей в Ленинградскую консерваторию поступила. Папа после этого год с Еленой не разговаривал и, только когда дочь со Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки с золотой медалью конкурса вокалистов вернулась, сменил гнев на милость.
Благодаря международному успеху юную Образцову заметили и пригласили в Большой театр — это случилось на третьем курсе, так что консерваторию ей пришлось экстерном заканчивать. После прослушивания она, тогда еще хрупкая девушка с ногами-спичками, дожидалась приема рядом с кабинетом директора театра и стала невольно свидетелем того, как прославленную Ирину Архипову спросили, что о талантливой новенькой солистке та думает: будет ли из нее толк? «А-а-а, — отмахнулась дородная примадонна. — Дитя войны...»: с тех пор Елена Васильевна только так Ирине Константиновне и представлялась, тем более что лет до 40-ка оставалась худышкой — только коленки торчали.
Блистательная Образцова, безусловно, советской была певицей, но в экспортном, улучшенном, что ли, варианте: безмерно талантливая, остроумная, аристократичная и с работоспособностью стахановки. Утром она могла на студии записываться, днем — в фильме Дзеффирелли крупными планами сниматься, вечером — петь спектакль: сцена, служение музыке были для Елены Васильевны, по ее признанию, сладкой каторгой.
«ЧУВСТВО ГОЛОДА ПРЕСЛЕДУЕТ МЕНЯ ДО СИХ ПОР»
— Елена Васильевна, вы блокадница — какие о том времени остались у вас воспоминания?
— Я, Дима, все время хотела есть и «ога» кричала — «тревога» и «анитки» — «зенитки». Чувство голода преследует меня до сих пор: даже если в какие-то шикарные рестораны хожу, — богатые люди порой приглашают! — ничего не могу на тарелке оставить. Для меня ужасно, когда не доедено что-то — съесть должна все, и это, хотя понимаю, что вести себя так неприлично, уже от меня не зависит.
— Смерти в осажденном Ленинграде вы видели?
— Да, и очень много — почему-то запомнила это, хотя совсем малюсенькая была. Я в 39-м родилась, а в 41-м война началась — ну сколько мне тогда было? Два-три года, но очень отчетливо помню, как вниз, в бомбоубежище, мы бежали, и я через людей, которые прямо на лестнице умерли, перескакивала. В начале блокады мы все время туда бегали, а потом даже и не ходили, потому что уже в совершенное безразличие впали.
— В кресле напротив меня великая певица современности сидит, 85 оперных партий исполнившая, а какая из них самой любимой у вас была?
— Из русского репертуара это Марфа в «Хованщине» — потрясающая, сильная натура! Умная, страстная, политикой занималась, а кроме того, безумно любила.
— И есть же что петь, правда?
— Вот именно: каждый раз я шла из театра домой, как после причастия, — такое душевное ощущение после этой партии было, а в западной музыке много Азучену из «Трубадура» пела, Далилу...
— ...Кармен, наверное...
— Ну, разумеется, и безумно Сантуццу из «Сельской чести» любила, потому что в этой опере Масканьи вся страсть моей души выплескивалась. Она совершенно фантастически написана, так, что на сцене я без перерыва, и музыка невероятно пылкая.
— Великий режиссер современности Франко Дзеффирелли признался: «В моей жизни три потрясения было — Анна Маньяни, Мария Каллас и Елена Образцова»...
— Было такое дело...
— Ну а для вас знаменитый итальянец потрясением стал? Какое впечатление вообще произвел?
— Человек это совершенно изумительный: необычайных знаний, ума, таланта, у него безумно много всего на сцене напихано — и людей, и зверей всяких: от декораций, костюмов, массовки голова кругом шла. Я всегда ему говорила и сейчас говорю: «Ну зачем тебе столько всего?». — «А ты, наверное, думаешь, что только на тебя в театр ходят? — смеется он. — Нет, зрители еще и меня хотят посмотреть».
— Знаю, что у него не только язык острый, но и зубы, и убедиться в этом вы смогли лично...
— Да-да, во время репетиции он меня... укусил.
— Куда или, вернее, за что?
— Мы в Вене «Кармен» репетировали — с Пласидо Доминго пели, а Дзеффирелли очень много предлагаемых обстоятельств мне давал: она и любвеобильная, и бандитка, и торговка, и воровка, и такая-сякая. Все это слушать мне надоело, ведь каждый раз образ то в одну сторону, то в другую менялся, и, как быть, я не знала.
«Ты можешь, — попросила, — одним словом сказать, кто такая Кармен?», и он взял и за плечо меня укусил. Синяк у меня, наверное, месяца два не сходил, но я сразу поняла: Кармен — это пантера такая, которую все хотят, все боятся, и делает она все, что вздумает. Сняла в результате туфли, босиком запела и стала... зверюшкой.
«ТЫ НЕ ДУМАЙ, — СКАЗАЛ МНЕ ЛЕБЕДЕВ, — ЧТО Я ОХАЛЬНИК КАКОЙ-НИБУДЬ, — Я НЕ ГРУДЬ ПОЦЕЛОВАЛ, А ИНСТРУМЕНТ»
— Если Дзеффирелли вас кусал, то прекрасный актер БДТ Евгений Лебедев целовал в грудь...
— Да, целовал (смеется).
— Зачем?
— Он на какой-то свой юбилей меня пригласил, который в Питере в Юсуповском дворце отмечали: сначала я пела, потом ужин был. Лебедев рядом со мной сидел, а я в декольтированном платье была, и вдруг он спросил: «Елена, можно твою грудь поцеловать?». Я опешила...
— И что же ответили?
— Посмотрела на него, рассмеялась и разрешила. Евгений Алексеевич с чувством так приложился и прошептал: «Ты не думай, что я охальник какой-нибудь, — я не грудь поцеловал, а инструмент».
— Диафрагму?
— Нет-нет, инструмент — диафрагма, мой дорогой, ниже.
— А кого из лучших оперных певцов мира вам довелось слышать и видеть?
— Ну, я со всеми самыми великими пела, и у каждого из них своя коронная партия была... Альфредо Краус, например, лучшим Вертером был, Пласидо Доминго — лучшим Самсоном. С Доминго вообще мало кто мог сравниться, потому что природа не одним талантом его наделила, а их сочетанием: он и дирижер, и пианист, и певец, и актер драматический плюс умен и красив.
— А умным певцу надо быть?
— Обязательно. На сцене мы же, как голенькие, и, кто дурак, сразу видно.
— Вы в свое время с Марией Каллас общались...
— Ну, сказать, что общалась с ней, не могу, — это неправда. Впервые на конкурсе Чайковского мы с ней встретились — она в жюри была: беседовали, всякие комплименты она говорила...
«Я ПОДУМАЛА: «КАК ЭТО КАЛЛАС — И В ШУБКЕ ИЗ ЗАЙЧИКА СИДИТ?»
— Это там, где с Тамарой Синявской первое место вы разделили?
— Да, и очень тогда подружились, на всю жизнь — никогда не ссорились. Тамара тоже выдающимся голосом обладала — великолепным контральто, а с Марией Каллас мы снова после премьеры Большого театра в Гранд-опера встретились. Это «Борис Годунов» был, и случайно мне подвезло: Архипова не смогла приехать — в Швейцарии на каком-то конкурсе задержалась. Я, совсем молоденькая девочка, Марину Мнишек спела и наутро знаменитой проснулась, меня сразу Соломон Юрок, один из самых великих импресарио, взял работать. Родом он был из Одессы...
— ...но на американский манер себя называл — Сол...
— Да, Соломон. Он всегда говорил: «В лавке кто-то должен быть», — имея в виду свой офис, и вот когда обо всем уже договорились, он меня на спектакль в Гранд-опера пригласил. Я с ним в ложу пришла, там маленькая скромненькая тоненькая женщинка сидела: гладкие волосы собраны были сзади в большой пучок, и так много бриллиантов везде было, даже на сапожках... «Кто это?» — я спросила. «Мария Каллас, — ответил Сол, — сейчас я тебя с ней познакомлю». Знаете, что меня сразу же потрясло? Я подумала: «Как это Каллас — и в шубке из зайчика сидит?».
— Все на бриллианты ушло...
— Я даже в глубине души ее пожалела, — смешно! — а потом оказалось, что это шиншилла, о которой при советской власти никакого понятия мы не имели.
Нас друг другу представили, мы рядышком сели, наши коленки соприкоснулись, и словно молния между нами прошла — Каллас ее тоже почувствовала, удивленно на меня посмотрела и вдруг начала говорить...
Так она весь спектакль и не умолкала... Для нее тогда трудные времена наступили — разрыв со своим возлюбленным Онассисом тяжело переживала, это на голосе отразилось, и в Гранд-опера договор с ней расторгли. Она говорила, как страстно любит и как страдает, обижалась на журналистов, которые ее «брошенной подружкой богача Онассиса» называли...
Ничего из того, что на сцене происходило, я не слышала — только ее, а когда спектакль закончился, она спросила: «Пойдешь со мной сейчас в «Максим»?». Я кивнула: «Конечно», и мы до пяти утра в ресторане сидели. Там уже никого не было, и все официанты рядком выстроились — мы ели устриц, очень вкусное вино белое пили, и все это время она свою жизнь мне рассказывала.
— На каком языке вы общались?
— На французском.
— Каллас — это больше легенда была или действительно певица великая?
— Великий музыкант — так бы сказала, потому что такую музыку создавать только великая певица, великая женщина может.
— Не могу о Галине Вишневской вас не спросить, которая, кроме всего прочего, и своей скандальной книгой «Галина» известна, где немало нелестного о многих коллегах своих написала. Она хорошей певицей была?
— Для Большого театра — вполне.
— А для мировой сцены?
— Вот из-за того, что как великая певица на мировой сцене Галина Павловна не состоялась, она и издала эту книгу — видимо, в отчаянии. Обижена была, удивлена, очень сильно все это пережила, и наружу полезло то, что полезло.
— Мне говорили, что Ростропович и Вишневская в Советском Союзе ни в чем не нуждались, чувствовали себя прекрасно...
— Это неправда: был период, когда Ростроповича сильно придавили и работать ему не давали — я это знала. Лишенный работы здесь, он куда-то далеко в Сибирь ездил и на грузовике под баян Баха играл — так было.
— Он гений, Мстислав Леопольдович?
— Без сомнения — это человек, который своей игрой меня плакать заставил. Со мной такое, пожалуй, раза три в жизни было...
— Евгения Семеновна Мирошниченко, с которой мы до самой ее смерти дружили, как-то сказала мне: «Ах, почему у меня такого мужа не было, как у Гали Вишневской, — где бы она была, если бы не Слава?». Ростропович действительно был в их семейном дуэте ведущим?
— Да, безусловно.
— Когда супруги на Западе оказались, общаться с ними вам удавалось?
— Было дело... Галя концертный вариант «Евгения Онегина» в Карнеги-холле, по-моему, пела, и я к ней за кулисы пришла, потому что очень ее любила. Мы ведь дружили, Вишневская, когда я в Большом петь начинала, много мне помогала.
— Вы не боялись, простите, что за вами проследить могут и впоследствии жизнь испортить?
— Нет, я вообще ничего никогда не боялась. Переступила, в общем, порог комнаты, где артисты гримировались, и вдруг фурию увидела разъяренную — она на меня накричала, во всех их бедах и страстях обвинила. Я так потрясена была, что у меня все слова в горле застряли...
— Чем же вы провинились?
— Ну, не знаю. Она же думала, что это из-за нас, молодых артистов Большого, им уехать пришлось, но кто нас в те годы слушал и почему мы должны были желать, чтобы они уехали? Конечно, ерунда собачья.
— Вы расстроились?
— Не то слово! — потрясена была, долго плакала, а потом эта книжка отвратительная вышла. Я много лет пыталась сказать ей, что люблю ее, что она напрасно так написала и думала о нас плохо зря, но это бесполезно — у нее, Вишневская мне говорила, какие-то документы то ли из ЦК, то ли из КГБ были.
Знаете, когда меня первый раз директор Большого Михаил Иванович Чулаки вызвал и сказал, что нужно коллективное письмо против Солженицына подписать, я отказалась. Наплела, что этого человека не знаю, никаких произведений его не читала: мол, как что-то могу подписывать? Это поступок был: мой первый протест и моя первая победа над собой — домой я пришла счастливая и мужу все рассказала. «Слава, — воскликнула, — ты можешь себе представить? Я чувствую себя человеком с достоинством и сама себя уважать начинаю!», а на следующий день газета с письмом вышла, под которым и моя подпись тоже стояла, и что в такой ситуации делать? Опровержения писать, возмущаться? — все равно не поверят...
— В последние годы, когда Галина Вишневская в Москве жила, вы общались, виделись?
— Нет, попыток примирения я не делала... Мы потом в Токио встретились: я в отель «Империал» зашла, где жила, и всю семью их увидела — оказывается, они тоже там остановились. «Здравствуйте», — сказала, они ответили: «Здравствуйте» — выглядело все очень интеллигентно.
— И Вишневская поздоровалась?
— Да, конечно.
— И все?
— Да, больше ничего. После этого мы на собраниях-совещаниях, на светских каких-то раутах часто виделись...
«ПРИШЛА ЗА КУЛИСЫ, ДМИТРИЯ БОЗИНА ПОЗДРАВИЛА И, САМА НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ, БРЯКНУЛА: «КАК БЫ Я ХОТЕЛА С ТОБОЙ ЧТО-ТО СЫГРАТЬ!», А РЯДОМ ВИКТЮК СТОЯЛ, КОТОРЫЙ СКАЗАЛ: «Я ПОДУМАЮ»
— Вы в спектакле Романа Виктюка «Антонио фон Эльба» стареющую примадонну сыграли, и я вам скажу, что не каждая певица, тем более великая, в совершенно другое искусство как в омут с головой бросится. Легко драматическая роль вам далась?
— Бросилась я туда потому, что и через год после смерти мужа прийти в себя не могла. Для меня это жуткая трагедия была, я себя запустила: не красилась, не мазалась, не выходила в свет — единственное, что сделала (считаю, что это меня поддержало и поэтому не умерла), — ни одного своего выступления, кроме «Реквиема» Верди в Китае, не отменила. Я понимала, что в «Реквиеме» мне эмоционально не спеть, что могу расплакаться... Русскую музыку не исполняла — полностью западной ее заменила, потому что любой романс, любая песня о каких-то обстоятельствах напоминала.
...На спектакль Виктюка «Саломея» меня привели насильно — я упиралась, идти не хотела, но это судьба вела... Увиденное так меня потрясло, что я пришла за кулисы, Дмитрия Бозина, который мне очень понравился, поздравила и, сама не знаю почему, брякнула: «Как бы хотела с тобой что-то сыграть!», а рядом Виктюк стоял, который сказал: «Я подумаю».
— Он еще думал...
— Через месяц Роман позвонил мне и сообщил: «У меня есть для вас пьеса» — это и был «Антонио фон Эльба» Ренато Майнарди. С Виктюком половина труппы его театра пришла, мы у меня дома сидели, он потрясающе эту пьесу читал, и я, не раздумывая, согласилась, потому что она, конечно же, обо мне.
— Вы еще в одном спектакле Виктюка «Венера в мехах» сыграть планировали...
— Да-да-да! — даже всяких садо-мазо принадлежностей накупила.
— В секс-шопах?
— Да, в Нью-Йорке специальный шоп есть для садо-мазо. Пришла я туда, там негритянка с толстыми губами была — очень сексуальная тетка, и она мне все выложила: хлысты, ошейники с шипами, наручники, какие-то приспособления для фиксации ног и рук, лакированную одежду ярко-красного цвета и черного... Я сказала, что мне надо вот это, это и это, также корсет заказала, плащ...
— Боже мой! — а еще Герой Социалистического Труда...
— Да-да-да (смеется), а сейчас маленькую комнатку хулиганскую себе обустроила, где все это висит, и когда гости приходят, они та-а-ак на меня смотрят — с ужасом (смеется)!
— Вы о вашем муже Альгисе Жюрайтисе, блестящем дирижере Большого театра, говорили, а сколько лет вместе вы прожили?
— 17.
— Это, я так понимаю, не только творческий был союз, но и союз двух понимающих друг друга людей...
— Это было счастье, потому что мой муж был человеком глубоким, естественным, очень страстным и лирическим одновременно, он потрясающе знал историю, литературу, музыку, философию. Каждое утро Альгис йогой два часа занимался, и я как-то ему сказала: «Если будет гореть дом, ты сначала йогу закончишь, а потом уже пожар станешь тушить». Мне интересно с ним было, только разговорить его большого труда стоило: он такой был... весь в себе, но когда мне это удавалось, сидела и слушала его, как маленькая девочка папу.
— Каково же ему было с такой звездой жить? Вы вот себя на его место ставили? — властная, волевая женщина с характером, красивая, умная...
— Ты знаешь, мы так друг друга любили, что звездность свою не показывали, и вообще, что такое звезда, я не понимаю.
— К Жюрайтису вы от первого мужа, физика-теоретика, ушли — разрыв был болезненным?
— Безумно, потому что Вячеслава я очень любила, а он меня, и жили мы дружно. Среди моей родни никто никогда ни от кого не уходил, все семьи всегда сплоченными были, и на меня это неожиданно так свалилось, но справиться со своей любовью никак не могла. Ни Альгис за мной не ухаживал, ни я глазки ему не строила — ничего не было: Жюрайтис был другом нашего дома, и мы старались его поддержать, когда с женой-балериной он разошелся. Альгис к нам приходил, и мы вкусно его кормили, хотя знали, что он ни рыбы, ни мяса не ел — вегетарианцем был, и когда ему дарили цветы, мы шутили, что это на ужин. Никогда в жизни не думала я, что вместе мы будем, — если бы мне кто-то сказал, что за Жюрайтиса выйду замуж, посмеялась бы да и все.
— И что вдруг случилось?
— Он пришел встречать меня на вокзал, потому что мужа на картошку послали: помню, поезд остановился, все выходят, я уже волноваться начинаю, и тут Альгис бежит — в белом свитере, с огромным букетом. Он в купе вошел, мы поцеловались... В одну секунду что-то произошло: как молния какая-то, как удар ножом в спину — вот дернулось что-то, и все.
— Сколько с первым мужем вы прожили?
— Тоже 17 лет.
— Отпускать вас он не хотел?
— Ну, он очень умный был... Переживал тоже невероятно, но как можно не отпускать? Трагедия с девочкой моей была, потому что она с папой осталась, но это естественно: я по заграницам ездила, а он с ней жил — это папина дочка была.
«ПОКА ЧЕЛОВЕК ЛЮБИТ, ОН ЖИВЕТ»
— Муслим Магомаев рассказывал мне, как на днях рождения Леонида Ильича выступал. Вы были тогда в фаворе, вас очень часто в «Голубых огоньках» показывали — наверняка и к Брежневу приглашали?
— Один раз — ему уже очень много лет было. Мы просто там пели, за столами сидели... По соседству Галя, его дочь, оказалась — она в капроновой кофточке была (они тогда только-только в моду входили), и сквозь прозрачную ткань белый лифчик просвечивал — меня это настолько потрясло, что на всю жизнь запомнила.
— Атмосфера была интересная?
— Ну как? — концерт, как и многие другие.
— Перекинуться парой фраз с руководством страны тем не менее можно было?
— Да, но меня как-то никогда не тянуло. Сидела тихохонько и с удовольствием черную икру ложками ела (смеется).
— Мне приходилось слышать, что вашим большим поклонником и покровителем сам министр культуры СССР Петр Нилович Демичев был...
— Да, меня даже Госпожой министершей звали.
— Говорили даже, что вашим любовником он являлся...
— А это с моей легкой руки (смеется) пошло... Я его дочери Леночке Школьниковой (будущей солистке Большого театра, народной артистке России) преподавала, и когда на дачу к ним приезжала, жена Петра Ниловича спрашивала: «Кто это пришел?», на что я отвечала: «Любовница Демичева». Она сразу: «Тс-с! Тише, тише! — еще услышит кто-нибудь, не так поймет», а я: «Вы знаете, Марья Николаевна, даже если бы очень хотелось, никак не получилось бы», потому что...
— ...занята постоянно...
— Ничего подобного, не поэтому! — утром кагэбэшники его встречали и в машину усаживали, шофер тоже из КГБ был, и у входа в министерство военные стояли, плюс внутри какие-то люди в форме сидели. «Так что, — смеялась, — при всем желании любовницей вашего супруга быть никак не могла». Мы очень дружили...
— Демичев же химик по образованию был...
— Три высших образования он имел и был очень деликатный и умный. Когда распался Союз и государственную дачу у него отобрали, у Петра Ниловича, всю жизнь высокие партийные и государственные посты занимавшего, никаких средств к существованию не осталось, и три года на моей даче он жил: мы с Альгисом им первый этаж отдали, а сами на втором расположились. Демичев бессребреник был — замечательный, дивный человек с чистой совестью.
— Вы же и Фурцеву застали — ее и Демичева сравнить можно?
— Совершенно разные люди. Демичев тихий, спокойный был, а Фурцева — яркая, моторная. В ней очень много трогательного было, и она потрясающе все эти министерские заседания вела — я как-то сидела и слышала, как Екатерина Алексеевна мужиков чихвостила! Она, безусловно, очень талантливая была.
— Скажите, а в управлении культура вообще нуждается, ей министры нужны?
— Думаю, нет. Может, для организации важных мероприятий каких-то, для контроля какого-то, чтобы не расползлись все куда-то, а так... Ну мне, например, министр зачем нужен? — я и без него свое дело знаю и справляюсь с ним замечательно.
— «Когда человек любить перестает, артистом он уже быть не может», — признались однажды вы...
— Не только артистом он быть не способен, но и вообще жить, и я думаю, люди умирают тогда, когда больше любить не могут. Не обязательно мужчину или женщину: пусть это будет природа, зверюшки — все, что угодно: пока человек любит, он живет.
«ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛА — НОЖКОЙ ПОЛ ЩУПАЛА»
— Вы упомянули, что Мария Каллас потеряла голос, когда миллиардер Онассис на Жаклин Кеннеди женился, а у вас были моменты, когда голос вдруг уходил?
— Нет, было другое — я плохо пела, когда в Альгиса влюбилась и с первым мужем разводилась, когда Ленка ушла. Для меня это была трагедия, и, конечно, на голосе сразу все отразилось.
— Будучи в зените славы, вы с велосипеда упали и практически на пять лет зрение потеряли...
— Да, почти ничего не видела — ножкой пол щупала. Альгис за ручку меня водил и говорил: «Осторожно, ступенька!».
— Как же вы восстанавливались?
— Никак. Сложность состояла в том, что наизусть ничего никогда не знала — всегда подсказки себе на бумажках писала, всюду приколотых, и вот буквы становились все больше и больше, до двух сантиметров дошли, но это не помогало...
— А как же по сцене темной ходить?
— Ну, это еще ничего — самое главное, что я дирижера не видела. Вот это была радость, потому что не я под них пела, а они под меня подстраивались, — я говорила: не вижу!
Зрение мне испанский доктор Барракер, замечательный врач-офтальмолог, вернул. Две операции он мне сделал: одну в понедельник, вторую в субботу, и через неделю я вдруг не просто какую-то тень увидела, а птичку, перышки серенькие и беленькие, рисунки на них: почему-то это мне очень запомнилось. Я в счастье была — ходила и, как маленькая, надписи вдали все читала. Знаешь, как дети, когда начинают буквы учить, вывески, объявления все читают? — вот и я детство свое вспоминала, улицы, из окна троллейбуса когда-то увиденные.
— Монтсеррат Кабалье до сих пор на сцену выходит, правда, слово «выходит» в данном случае не очень уместно — как вы считаете, это правильно?
— Думаю, что для музыки этого делать не надо, но для певицы... Так сложно сцену оставить... Я, например, тоже до сих пор выхожу, а ведь мне уже 75 лет. Тем не менее еще пою, и прилично. Недавно концерт в Малом зале консерватории у меня был: вот какую-то энергию Боженька дал — как молодая, пела. Новую программу Листа исполнила, французскую музыку мою любимую, но вот так, с огромным трудом, на трость или руку опираясь, выходить и петь плохо я бы, наверное, все-таки не решилась.
— С возрастом голос хуже становится?
— Да, безусловно — менее ярким по окраске, меньше обертонов имеет, да и просто слабеет. Надо еще знать, как уходить: какую музыку можно петь, а какую не надо.
— Примеров, когда с возрастом голос лучше становился, вы не знали?
— Увы.
— «О чем вы мечтаете?» — спросили у вас журналисты. «Сначала умереть, а потом перестать петь», — ответили вы...
— По-прежнему так хочу — сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть.
— В то, что тот свет есть, верите?
— Я абсолютно в этом убеждена!

 Владимир ВОЙНОВИЧ: «Если Путин еще глубже на Донбассе увязнет, распадется не только Украина, но и Россия»
Владимир ВОЙНОВИЧ: «Если Путин еще глубже на Донбассе увязнет, распадется не только Украина, но и Россия»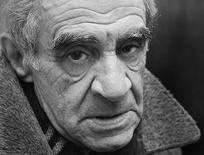 Вдова выдающегося советского актера Зиновия ГЕРДТА Татьяна ПРАВДИНА: «В один из последних дней Зяма сказал мне: «Девочка, как же тебе без меня тяжело будет!», но даже представить не мог, насколько окажется прав»
Вдова выдающегося советского актера Зиновия ГЕРДТА Татьяна ПРАВДИНА: «В один из последних дней Зяма сказал мне: «Девочка, как же тебе без меня тяжело будет!», но даже представить не мог, насколько окажется прав» Елена ОБРАЗЦОВА: «Хочу сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть»
Елена ОБРАЗЦОВА: «Хочу сначала умереть, а потом уже петь закончить, а может, Бог даст еще на небесах, на том свете немножко попеть» Писательница Дина РУБИНА: «Страдаю я оттого, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно»
Писательница Дина РУБИНА: «Страдаю я оттого, что, когда чей-то текст читаю, думаю: «Вот это гений, а я говно» Экс-депутат Госдумы Константин БОРОВОЙ: «Через пару месяцев рубль упадет вдвое. Выживание Путина и его окружения будет зависеть от Порошенко»
Экс-депутат Госдумы Константин БОРОВОЙ: «Через пару месяцев рубль упадет вдвое. Выживание Путина и его окружения будет зависеть от Порошенко» Бессмысленный и беспощадный
Бессмысленный и беспощадный Украинский скульптор Олег ПИНЧУК: «Не хочу чувствовать себя негодяем, который даже не попытался изменить страну, а значит, и свою жизнь»
Украинский скульптор Олег ПИНЧУК: «Не хочу чувствовать себя негодяем, который даже не попытался изменить страну, а значит, и свою жизнь» Життя іде...
Життя іде... Новости культуры
Новости культуры Путин не стоит обедни, или Почему не следует в каждом террористе видеть руку Кремля
Путин не стоит обедни, или Почему не следует в каждом террористе видеть руку Кремля Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги