Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Я очень мнителен, невероятно стесняюсь — например, своих шрамов, которыми изуродован (помню даже, когда вышел из госпиталя, в верхней одежде купался, потому что стеснялся раздеться). Слава Богу, я встретил женщину, которая как-то примирила с самим собой, — она так любила, что я понял: не настолько безобразен, как себе представляю»


(Продолжение. Начало в № 33 , в № 34 и в № 36)
«В России у меня ничего нет — ни студии, ни заказов»
— Когда в Советском Союзе началась перестройка, многие деятели культуры, которые были в изгнании: и Солженицын, и Ростропович, и Аксенов, и Войнович, — вернулись назад. Почему их примеру вы не последовали?
— Я тоже ездил в Россию, начал уже там работать, но куда вернуться? У меня огромный дом на Шелтере (острове, населенном ушедшими на покой миллионерами. — Д. Г.), парк скульптур есть, вот эта чудесная мастерская, наладились уже связи с литейками, с камнерезными мастерскими — здесь любые материалы по телефонному звонку доставляют...
— ...о чем, живя в Союзе, можно было только мечтать...
— Безусловно, а в России у меня ничего нет — ни студии, ни заказов.
— Только память осталась...
— Да, но в моем возрасте снова все начинать сначала, с покупки молотка...
— ...глупо...
— И глупо, и сил нет. Я даже от интервью вам несколько лет отказывался — у меня просто на это нет сил. Я же не мог предвидеть, что вы такой милый, интеллигентный человек, что с вами мне будет интересно и очень легко.

— Эрнст Иосифович, после развала СССР прошло уже более 20 лет, много информации появилось, была возможность все проанализировать и обдумать... Что думаете вы сегодня о советской власти, об этом жутком эксперименте над огромным количеством людей?
— Мне, Дмитрий, хочется, несмотря ни на что, быть оптимистом. Дело в том, что глоток свободы, если у россиян он действительно был, опьяняет, и обратно в клетку загнать трудно — тем более при компьютерах, при интернете. Вы знаете: рабство подневольный труд без этих атрибутов цивилизации подразумевает, и мне кажется, что если эти перемены проникнут в самые глубины России, в ее сердце — Урал и Сибирь, возврат в прошлое будет невозможен. Кроме того, целое поколение выросло...
— ...работ Ленина не читавшее...
— ...и слава Богу!
...О советской власти я всегда думал одно и то же, ведь вырос в семье, где и отец, и дед были глубокими антисоветчиками. СССР — это ведь очень искусственное образование, не органически развивающееся, а рожденное из бумажки — Ленин написал, и лепить начали государство, которое Сталин в огромную превратил коммуналку...
— ...искусственно...
— Это самая значительная коммуналка в мире, разве что Китай может с нею тягаться, причем и взаимоотношения людей коммунальные — кто первый написал соседу в борщ, тот на коне.

Из монологов, записанных в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«У меня было стремление добиться покровительства власти, но, когда с этой властью сталкивался, своего презрения к ней скрыть не мог, потому что так исторически сложилось, что власть раньше всегда охраняла Моцарта от массового Сальери. Единственная власть — это советская, которая поддерживала бездарность против дара, леность против трудолюбия. Вместо красоты выбиралось уродство, вместо прекрасной речи косноязычие, в русском языке насаждались самые провинциальные, я бы сказал плебейские «гэ», «хэ», то есть речь и интонации люмпена. Наши вожди говорили с придыханием люмпена. Как очень хорошо сказал Юра Любимов: «Нас лишили бенефиса»...».
«Памятник Дзержинскому на Лубянке надо было оставить»
— После перестройки в Советском Союзе взялись демонтировать памятники, а ведь по всей стране стояли, между прочим, иногда очень выразительные монументы Ленину, Дзержинскому, другим деятелям партии...
— Я лично против их сноса.
— Почему?
— Пытаться угнаться за политическими переменами — не для скульптуры, это мою профессию унижает. Памятники не бегают, они стоят, ну и, кроме того, действительно неплохие были работы.
— Бронзового Дзержинского на Лубянке сносить не следовало?
— Его демонтаж — политическая акция, заботой об облике города, об искусстве не продиктованная, но это не самый дурной памятник в России, и, на мой взгляд, надо было его оставить.

Из монологов, записанных в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«Академики действительно видели во мне врага. Почему? Я выигрывал у них все конкурсы и претендовал на роль Скопоса — государственного скульптора, просто оставлял позади Вучетича, своего учителя Томского, Кербеля, хотя советскую школу, например, в лице монументалиста Меркурова, ценю. Это не важно, что он Сталина лепил, — вы посмотрите, как лепил. Это одна из хороших мировых школ, Меркуров и такие, как он, выходили из этой ситуации с абсолютно открытым цинизмом, который был как закон природы воспринят. Нравственности в природе нет — такой социальный дарвинизм, и они были последовательны в этом абсолютно.
Ну, Вучетич — это талантливый человек, который обладал всеми качествами художника Возрождения, то есть волевой, честолюбивый, невероятный интриган уровня Бернини — мог отравить, размах такой, только не скульптор он. Все качества есть, но лепить не умел, и когда находил помощников, которые умели, все-таки делал нечто.
Если бы маршал Жуков — значительная же фигура! — вдруг утром проснулся, сошел с ума и захотел лепить, он бы это точно как Вучетич делал».

— Ваши самые значительные работы советского периода — «Прометей» в Артеке и «Цветок лотоса» у Асуанской плотины в Египте — включены во все каталоги и во все анналы, это для многих скульпторов образец для подражания, а вы этими творениями гордитесь?
— Я от них не отказываюсь, потому что там мой пафос. Не тот, которым советские скульптуры пронизаны, а пафос Германа Мелвилла, Джека Лондона, Майна Рида.
— Читал, что на свои деньги — за 800 тысяч долларов — вы установили в Магадане памятник «Маска скорби», посвященный жертвам сталинизма...
— Ну, не все 800 тысяч мои, но 200 тысяч отдал.
— Своих денег?
— Своих, и практически работал бесплатно.

— Это было для вас важно — сделать мемориал жертвам сталинизма именно в Магадане?
— Название «Жертвам сталинизма» я не люблю — оно тему сужает: это памятник жертвам утопического сознания.
— Вы на его открытии были, а чем Колыма — эта обильно политая кровью земля — вас поразила?
— Меня потрясло то, что весь город пришел с детьми: никто ведь людей не гнал — сами шли, а мне говорили, что Магадан — коммунистический, что никому это не нужно... Оказалось — необходимо: там заключенных же много...
— ...конечно, осевших...
— ...и Аня моя плакала (ее всячески опекали), а я святым себя чувствовал, потому что подходили, целовали руки, обнимали, рыдали.

— Ужасно сознавать, что вся история советской власти пронизана уничтожением человека человеком, а как вы считаете, в России возвращение к этой человеконенавистнической идеологии возможно?
— Я с детства знал, что коммунистическая и фашистская идеология — это не политическая ошибка, а антропологическое преступление, а что касается ответа на ваш вопрос...
В России возможно все, но дело в том, что все-таки Сталина давно уже нет — и выросло без него не одно поколение.
— В живых его нет давно, но дело его живет...
— Согласен, но нет лидера, который может занять его место. Иосиф Виссарионович, конечно, был абсолютно кровав и уникален, однако такие люди появляются редко. Когда-то Тамерлан изрек: «Я навсегда останусь в истории, потому что убил столько людей, что забыть этого не смогут» — то же самое мог сказать о себе Сталин...
— ...которого по той же причине не могут забыть, правда?
— (Вздыхает). Массовый садомазохизм!
«От творчества я сегодня даже большее удовольствие получаю, потому что немощен, болен. Диабет, раны болят, и работа меня лечит»
— Ваши скульптуры экспонируются во многих ведущих музеях мира, а сколько сегодня, если из рыночных исходить цен, может стоить средняя ваша работа?
— Я и не знаю. Небольшие — вот как эта (показывает) — 50 тысяч долларов, но редко они продаются. Продажей моя жена занимается, я — нет, потому что галерейщики, зная мой характер, затягивают переговоры настолько, что я уже сам им готов заплатить, чтобы только ушли, чтобы я мог работать. Американцы вообще не скупятся, просто не американский я скульптор.

— Одно время вы увлеклись созданием ювелирных изделий...
— Это интересно. Я делал, во-первых, маленькие скульптурки... Скажем, в России есть премия «Триумф», и лауреатам ее мою статуэтку «Золотой эльф» вручают, но были и кольца, и браслеты. Дело в том, что в ювелирном искусстве всегда те же веяния времени проявляются, что и в скульптуре других масштабов, например, египетская ювелирка соответствует сфинксам, и то же самое во Франции: барокко — оно во всем, поэтому, когда занимаюсь такими вещами, не изменяю себе. Маленькую скульптуру леплю так, что ее можно увеличить до многих метров и она будет хороша.
— Сейчас во всем мире набирает популярность современное искусство — за десятки миллионов долларов продаются и скульптуры, и картины, на которых изображено... Многие даже не понимают, что, но это им, судя по всему, очень нравится, а как к современному искусству относитесь вы?
— Я считаю, что говорить о современном искусстве в целом нельзя — есть отдельные художники, крупные и не очень индивидуальности, но я не современный художник, а старомодный и делаю это сознательно. Помните, как у Гейне:
День иной, иные птицы,
И у птиц иные песни.
Я любил бы их, быть может,
Если б мне другие уши.
На этом я успокаиваюсь...

— Вы вспоминали Хрущева, который бросил в ваш адрес: «Говно собачье», но сейчас некоторые художники продают за огромные деньги именно говно человечье: что вы об этом думаете?
— Мне жалко и их, и тех, кто это говно покупает.
— Некоторые считают, что и, допустим, «Черный квадрат» Малевича — не искусство...
— Это искусство провокации...
— ...имеющее право на жизнь?
— Это все имеет право на жизнь — мы же не можем убивать человека за то, что он рыжий.
— Как говорил Мартирос Сарьян: «И так можно»?
— Вот именно, во всяком случае, ни к одному из коллег у меня совершенно нет претензий.
— Вы продолжаете работать?
— Конечно.
— Над чем?
— А вон у меня эскизы стоят... Небольшими скульптурами и полотнами занимаюсь и бесконечно много рисую — тысячи рисунков уже сделал.

— Вам творчество такое же удовольствие приносит, как в молодости?
— Признаться, даже большее получаю, потому что немощен, болен. Диабет, раны болят, и работа меня лечит — это в определенном смысле психотерапия.
— На протяжении жизни вы с огромным количеством выдающихся людей общались, а гениев настоящих (не только в живописи, в скульптуре, но и в других сферах деятельности) видели?
— Пожалуйста: Шостакович, Ландау — мы были дружны.
— Гений вообще магнетичен, он распространяет вокруг себя сияние какое-то, свечение?
— Не знаю, но, во всяком случае, с гением легче разговаривать, чем с бездарностью. Дело в том, что он допускает возможность существования другого гения, а серость равняет всех по себе.
— Просто бездарностей в отличие от гениев слишком много...
— Да это неважно: посредственности преуспевают, потому что средний человек в них нуждается.
«Я человек верующий, религиозный и людей, которые не верят, жалею — мне кажется, они себя обделили»
— Ваше имя давно уже во всех мировых энциклопедиях значится, вас почитают, считают гуру, вам поклоняются, а сами к себе как относитесь?
— Критично. Часто я очень собой недоволен, и это хорошо, потому что не халтурю.

— Не нравитесь вы себе чаще, чем наоборот?
— Сейчас особенно — видите, с палочкой я хожу? Хочу вам, кстати, сказать, что болезни и возраст легче переносят люди, которые в детстве много болели.
— Им это привычно...
— Они это состояние и как с ним бороться знают, а я мальчишкой такого же склада был, как сейчас, только шире в плечах — спортивный, и это потом меня угнетало... Я очень мнителен, невероятно стесняюсь — например, на пляже своих шрамов, которыми изуродован: помню даже, когда вышел из госпиталя, в верхней одежде купался, потому что стеснялся раздеться. Слава Богу, я встретил женщину, которая как-то примирила меня с самим собой, — она так любила, что я понял: не настолько безобразен, как себе представляю, и вот сейчас, скажем, чтобы принять вас, приоделся, правда... Пока подготовка шла к интервью, взял костыль и, хромая, думал: вот стеснительная ситуация...
Творчество для меня — это неизбежность, поэтому над второстепенными какими-то вещами ломать голову некогда. Я удовлетворен, поскольку делаю то, что мне хочется, и как хочется, и никто ни пряником, ни кнутом не заставит меня меняться. Вот, например, здесь многие наши художники в связи с другой обстановкой и появлением новых материалов очень переменились: в прошлом соцреалисты, они какими-то футуристами стали, а я прежним остался — мои работы точно такие же, как в России.
— Ну, вы же соцреалистом не были...
— Да, но в действительности какие-то элементы соцреализма, то есть пафоса и романтики, только не ложной, у меня присутствуют, и многие советские монументы я считаю очень хорошими. Вот меркуровский — пусть это и Сталин! — замечательный или, например, «Рабочий и колхозница» Мухиной, и если эта зараза у меня есть — слава Богу, это не самое плохое.

— Как к религии вы относитесь?
— Я человек верующий, религиозный и людей, которые не верят, жалею — мне кажется, они себя обделили. Философ Мераб Мамардашвили (мы с ним подружились, когда параллельно с учебой в Суриковском институте я на философский факультет МГУ поступил) в одной из лекций сказал: «Эрнст Неизвестный поразил меня тем, что был действительно верующим». Я очень удивился, потому что ни к какой конфессии не принадлежал, но понял, что имел в виду Мераб. Все: жизнь, общение, природу особенно — я воспринимаю как чудо и тайну, и это чувствуется.
— И вы, значит, верите, что Бог есть?
— В бородатого дедушку я не верю, нет, но есть нечто — Высший Разум, потому что, если способны мы думать, почему самонадеянно считаем, что не может быть такого мозга, который все породил?
— В советское время такие люди, как вы, были наперечет и восторженные девушки наверняка вас осаждали. Это слепое поклонение, это желание во что бы то ни стало прикоснуться — и даже больше! — к кумиру вы ощущали?
— Все это противно, потому что не с искренним чувством связано, а, скорее, с модой, а моду я не люблю.
— В 95-м году вы женились на Анне Грэм — это второй ваш брак, а чем ваша жена занимается?
— Она мой менеджер, а вообще — интеллигентная московская девочка, Институт иностранных языков имени Мориса Тореза окончила. Она испанистка, но сейчас занимается всем, что связано со мной.

— Ваша дочь в жизни себя нашла?
— Ольга — художница, рисует пейзажи — что-то такое обычное. Я не слежу — она же в Москве.
— Вам нравится то, что из-под ее кисти выходит?
— Нравится, но это такая умеренно-красочная живопись, романтическая... На вполне приемлемом уровне — она не халтурщица.
— И есть в кого...
— Ну, возможно.
— Маму — поэтессу Беллу Дижур — вы уже похоронили...
— Да, совсем недавно — она прожила 102 года.
— Это из области фантастики?
— Да, фантастическая жизнь... Я отношусь к ней с невероятным уважением. У нее была прекрасная память и голова, словно энциклопедия: когда мы хотели уточнить адреса или телефоны, Аня звонила ей и справлялась: как, что, кто? Мама все знала и меня буквально замучила — все дни рождения помнила.
«Мысль о смерти создает масштаб жизни. Человек, который о смерти думает, не так заносчив, не так мелочен, ведь эта мысль, как ластик, стирает всю ерунду»
— Белла Абрамовна писала потрясающие стихи (некоторые я читал), а вы что-то из ее поэзии помните?
— Помню, но не хочу сейчас читать, потому что вспомню ее и обязательно расстроюсь — с возрастом становишься сентиментальным... Это очень хорошие стихи, особенно ее поэма о Януше Корчаке. Она получила международную популярность, и когда мы с Аней встречали ее из СССР в Австрии, в Вене, Симон Визенталь... Знаете, кто это?
— Да, конечно, — основатель Центра еврейской документации в Австрии и знаменитый «охотник за фашистами»...
— Я с ним дружил, и он организовал в честь моей мамы прием. Визенталь очень ее уважал и хотел, чтобы его жена дружила с Беллой Дижур как с умным человеком, внушавшим оптимизм.
— Ваше общение с мамой, когда вы перешагнули рубеж пожилого человека, как-то изменилось, вы еще больше сблизились?
— У нас были отношения как у сына с мамой, то есть любовные. С ней было безумно интересно — она же генетик, училась у Вернадского, а кроме того, теософией занималась, евгеникой. У мамы удивительное было свойство — доброжелательность, она умела слушать, выделяя, запоминая главное... В общем, замечательное общение у нас было — никакой болтовщины.

— Вам 87 лет... Думаю, на фронте, когда вы сидели в окопе, ожидая атаки, вам даже в голову не приходило, что сможете до такого возраста дожить...
— И вправду не приходило — думал, что скоро помру: буду застрелен, убит.
— Груз лет вы ощущаете?
— Что меня раздражает — так это слабость, кроме того, приходится все время прислушиваться к своему организму. Становлюсь все больше похожим на отца: он был ворчун, и у меня мелочное недовольство появилось, но я себя сдерживаю, потому что это типично стариковское.
— Вы хотите прожить до 100 лет и больше?
— Хочу, но не знаю, как. Вопрос в качестве жизни: хорошо бы, чтобы меньше болела спина, чтобы работали ноги.
— Вы перенесли две операции на сердце и даже клиническую смерть, а свои ощущения там, по другую сторону бытия, помните?
— Их описать невозможно: для этого надо быть Кафкой, а мне не дано — словом я так не владею.
— Рискну задать непростой, но очень искренний вопрос...
— Давайте!
— О смерти вы думаете?
— Постоянно — Анечка на меня даже сердится. У меня поговорка была: «Сестра моя — смерть» (вопреки пастернаковскому: «Сестра моя — жизнь») — дело в том, что думать об этом всем надо, потому что мысль о смерти создает масштаб жизни, к тому же ничего более таинственного, кроме рождения, конечно же, нет.
Кстати, во всех великих религиях смерть — это не окончательное небытие (за окном гремит гром).
— Видите, гром какой?
— Ну вот... Какое-то продолжение сознания будет — мы это очень ощущаем при жизни, что, к сожалению, часто в различных извращенных суевериях выражается. Вместе с тем человек, который о смерти думает, не так заносчив, не так мелочен, ведь эта мысль, если она глубоко прочувствована, как ластик, стирает всю ерунду. Впрочем, я умирать не хочу.
— Вы не один надгробный памятник установили, а что, простите за бестактность, хотели бы на своей видеть могиле?
— Ой, ничего — простую плиту...
— Фамилия и имя?
— Ну да. Может, православный крест, который мне нравится, — форма изумительная, но, в общем, это неважно.

— Мы сегодня много говорили о вашей непростой жизни (вернее, о нескольких ваших жизнях, которые уместились в одной) — она счастливой была, как вы считаете?
— Я назвал бы ее полностью счастливой, если бы голова и дни мои были освобождены от кухонных, мелких, обывательских нужд. Дело в том, что я люблю героику, но не пустую барабанную дробь, и, если вы мои скульптуры внимательно посмотрите, в них присутствует героика, то есть одушевленное барокко.
— Сегодня, имея столько лет за плечами, вы понимаете, что в вашей жизни действительно было главным?
— Ответить на этот вопрос я не могу, потому что, когда воспоминаниям предаюсь, многие события местами меняются. Кроме того, у меня действительно нет границы между явью и сном — иногда для меня важны сновиденческие явления, я о них думаю как о реальных.
— Вы знаете, ради встречи с вами я несколько тысяч километров преодолел и не пожалел об этом ни на секунду. Я абсолютно счастлив, что наше знакомство состоялось, и не сомневаюсь, что творческих удач у вас впереди еще много. Живите, пожалуйста, еще долго и полнокровно!
— Спасибо.

Киев — Нью-Йорк — Киев

 Бывший украинский политзаключенный, осужденный в России, Юрий СОЛОШЕНКО: «Пришел начальник тюрьмы и сказал: «Юрий Данилович, не умирайте, пожалуйста. Я недавно назначен, международный скандал мне ни к чему»
Бывший украинский политзаключенный, осужденный в России, Юрий СОЛОШЕНКО: «Пришел начальник тюрьмы и сказал: «Юрий Данилович, не умирайте, пожалуйста. Я недавно назначен, международный скандал мне ни к чему» Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «Мне, старому человеку, мужчине, стыдно в этом признаться, но когда Крым аннексировали, я плакал, как ребенок»
Первый премьер-министр независимой Украины Витольд ФОКИН: «Мне, старому человеку, мужчине, стыдно в этом признаться, но когда Крым аннексировали, я плакал, как ребенок» Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Пик инфляции мы пережили — это было страшное время. Теперь необходимы реформы»
Исполняющая обязанности замглавы Нацбанка Украины Екатерина РОЖКОВА: «Пик инфляции мы пережили — это было страшное время. Теперь необходимы реформы» Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Я очень мнителен, невероятно стесняюсь — например, своих шрамов, которыми изуродован (помню даже, когда вышел из госпиталя, в верхней одежде купался, потому что стеснялся раздеться). Слава Богу, я встретил женщину, которая как-то примирила с самим собой, — она так любила, что я понял: не настолько безобразен, как себе представляю»
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «Я очень мнителен, невероятно стесняюсь — например, своих шрамов, которыми изуродован (помню даже, когда вышел из госпиталя, в верхней одежде купался, потому что стеснялся раздеться). Слава Богу, я встретил женщину, которая как-то примирила с самим собой, — она так любила, что я понял: не настолько безобразен, как себе представляю»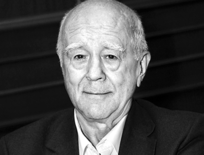 «Изячная жизнь»
«Изячная жизнь» Премьер-матюк Украины, или Мачо из Кабмина
Премьер-матюк Украины, или Мачо из Кабмина Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги