«Я бежал от судьбы, из-под низких небес...»

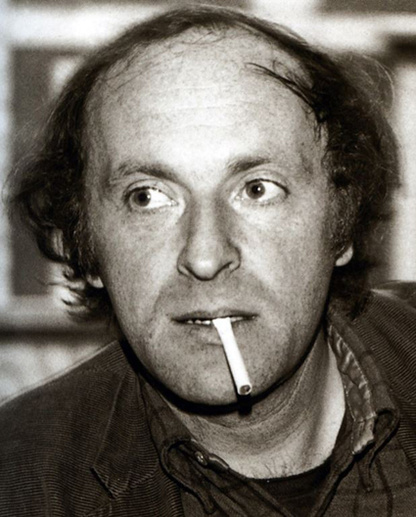
«КАКУЮ БИОГРАФИЮ ДЕЛАЮТ НАШЕМУ РЫЖЕМУ!»
 |
| С отцом. Александр Иванович Бродский был военным фотокорреспондентом, вернулся с войны в 1948 году, работал фотографом и журналистом в нескольких ленинградских газетах |
Когда в следующий раз Бродского увезли надолго, Анна Ахматова, его «крестная мать» у поэтической «купели», сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял».
Может, говоря это, она думала и о своей биографии, во многом сделанной расстрелом первого мужа Николая Гумилева, арестами сына и еще одного мужа.
Избыточный трагизм биографии если не убивает, то придает голосу неповторимое звучание.
Бродскому, кажется, не льстило ироничное, а то и циничное высказывание Ахматовой. Он хотел, чтобы биография не
 |
| С матерью Марией Моисеевной Вольперт |
заслоняла его труда и таланта. На власти как бы ни обижался, говорил, что наказание заслужил, да и в то время больше страдал из-за постигшей его любовной драмы с Мариной.
Спустя несколько лет Иосифа Бродского небрежно выдавили из страны, будто из тюбика с пастой. Думали, тюбика от этого не убавится.
В 90-е он мог вернуться в ореоле мирового признания, особенно Нобелевской премии. Но не вернулся. Не хотел упиваться, как это позже сделал Солженицын, всенародной славой. Отшучивался: на место убитой любви не возвращаются. Когда-то написал: «На Васильевский остров я приду умирать», но сердце поэта, перенесшего уже в Штатах тяжелейшую кардиологическую операцию, остановилось в Нью-Йорке. Иосифа Александровича похоронили в городе, который он любил особой любовью, — на кладбище венецианского острова Сан-Микеле. Венеция возложила к его изголовью последний венец.
Сам Бродский не считал себя диссидентом, был, скорее, человеком аполитичным, просто — шаг влево, шаг вправо из однообразно серого пейзажа карались, как лагерный побег. Часто приговаривал: «На каждого мосье существует свое досье». На поэта и писателя собрать компромат проще простого. И надо сказать, досье на мосье Бродского было не совсем высосано из пальца.
Ося Бродский, популярный завсегдатай питерских молодежных компаний и участник поэтических вечеров, опубликовал пять стихотворений в первом в СССР самиздатовском журнале «Синтаксис». Газета «Известия» радостно откликнулась рецензией под названием «Бездельники карабкаются на Парнас». Среди «бездельников» были Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Владимир Уфлянд, Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн и многие другие московские и ленинградские поэты. Одни уже были знамениты, другие дебютировали, но все невероятно талантливы.
 |
| На аэродроме в Якутске, 1959 год |
Редактора журнала «Синтаксис», студента журфака МГУ Александра Гинзбурга, осудили на два года (позже эту практику повторили за другое «преступление»), по ходу дела на заметку взяли опубликованных им авторов, в том числе Иосифа. Его вызвали в КГБ и строго предупредили: больше самиздатом не баловаться. Он все понял. Однажды «усталый раб» придумал кое-что похлеще.
Иосиф любил Антуана де Сент-Экзюпери, его «Маленького принца» и мечтал стать, как любимый писатель, летчиком. Позже, едва приехав в Америку, он запишется в аэроклуб и месяца два-три полетает с инструктором. А для объяснения причин, манивших его все выше и дальше, выведет формулу, подходящую и к той давней абсолютно безбашенной истории, которая добавила несколько строк в его досье: «Лучше, если именно вздор вас приводит в движение — ибо тогда и разочарование меньше». Именно вздор и привел его в движение, хотя разочарование было немалым.
Два приятеля сыграли в судьбе Бродского особую роль — Александр Уманский и Олег Шахматов. Уманский увлекался йогой, индийской и другими философскими системами, писал трактаты, опубликовать которые в СССР никто не взялся бы. Шахматов, на несколько лет старше Иосифа, уже имел «биографию»: изгнанный из армии то ли за пьянство, то ли за бабничество, он отсидел год по обвинению в хулиганстве по отношению к отвергнувшей его подруге, учился в Ленинградской консерватории, был незаурядным гитаристом, писал стихи.
Шахматова мотало по стране, осел он в Самарканде. Зазвал Осю посмотреть жемчужину Востока, и тот помчался, прихватив с собой тетрадь со стихами и одну из крамольных рукописей Уманского. Это наводит на подозрение, что Бродский все-таки подумывал бежать за границу.
Оказалось, что в Самарканде Шахматов как приглашающая сторона не может предложить гостю ночлег, поскольку и сам лишен такового.
 |
| У окна квартиры с видом на Спасо-Преображенский собор, 1956 год |
Ночевали где придется, даже на полу мавзолея Шахи Зинда. Древние усыпальницы представлялись юному поэту, неустанному искателю метафор, то лампами в темноте, то кораллами в пустыне. Откуда в песках кораллы? Разве что из воспоминания о доисторическом прошлом пустыни — океанского дна.
Парни решили бежать в Афганистан. Будущая война еще никому не могла привидеться в самом страшном сне. Что там делать среди диких племен и зарослей конопли?.. Как полагают некоторые источники, возникла другая идея: взять курс на Иран и приземлиться на американской военной базе.
ВЫБРОСИЛ КАМЕНЬ, ПОТОМ БИЛЕТЫ
План захвата разработал Иосиф: «Мы покупаем билеты на один из этих маленьких самолетиков. Шахматов садится рядом с летчиком, я сажусь сзади, с камнем. Трах этого летчика по башке. Я его связываю, а Шахматов берет штурвал».
На рубль, сдачу от билетов, Бродский накупил на самаркандском базаре грецких орехов. Присел на край взлетной полосы, достал камень из-за пазухи и стал колоть орехи. Скорлупы крошились легко, орехи выпадали целыми половинками. Он вдруг подумал, что они до ужаса напоминают человеческий мозг, который через несколько минут ему, возможно, предстоит расколоть. Как раз в этот момент к самолету подошла потенциальная жертва. Иосиф взглянул летчику в лицо и похолодел: какое он имеет право отнимать здоровье или даже жизнь у этого симпатичного, ни в чем не повинного парня? Выбросил камень, потом билеты.
Датировка стихотворения, названного прямо по Экзюпери — «Ночной полет (1962)», прямо указывает на событие, которому оно посвящено:
...В брюхе Дугласа ночью
скитался меж туч
и на звезды глядел,
и в кармане моем
заблудившийся ключ
все звенел не у дел...
Я бежал от судьбы,
из-под низких небес,
от распластанных дней,
из квартир, где я умер
и где я воскрес,
из чужих простыней;
от сжимавших рассудок
махровым венцом
откровений, от рук,
припадал я к которым и выпал лицом
из которых на Юг...
Осмысление облегчает, если повезет — освобождает. Но от давления низких небес спасения не предвиделось.
«ОКОЛОЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРУТЕНЬ»
 |
| Иосиф Бродский с лучшим другом поэтом Евгением Рейном |
Вернувшись в Ленинград, Иосиф попытался «устроить» рукопись Уманского через командированного в СССР американского журналиста. Наивный, не догадывался, что все номера, особенно занятые иностранцами, поставлены на прослушку. Американец догадывался и взять рукопись отказался.
Похоже, с того гостиничного визита ниточка следствия по делу о ленинградских изменниках родины начала разматываться. Уманского, Шахматова и Бродского арестовали. Благодаря щадящим показаниям друзей Иосиф отделался легко.
Из опубликованной секретной справки прокурора Отдела по надзору за следствием в органах Госбезопасности Шарутина и заместителя начальника отделения Следственного отдела КГБ при Совете Министров СССР Цветкова.
«...Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на пять лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно... Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал (речь об Уманском. — Авт.). Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ по Ленинградской области с ним проведена профилактическая работа».
Спустя полтора года чекисты передумали нянчиться с «рыжим». Рассказывали, что на какой-то писательской попойке поэт, главный редактор журнала «Новый мир» Александр Твардовский кричал другому поэту, члену Центральной ревизионной комиссии КПСС Александру Прокофьеву: «Ты подлец! Ты погубил молодого поэта!», на что Прокофьев парировал: «Ну и что ж! И правда! Это я сказал Руденко (Генеральному прокурору СССР. — Авт.), что его надо арестовать!».
Как нередко случалось в те времена, своих холодных рук чекисты не пачкали, а отдавали жертву на съедение «общественности». Так появилась зубодробительная
 |
| С поэтом Дмитрием Бобышевым, которого Иосиф считал близким другом, Бродского навсегда рассорила Марина Басманова. Подробности Бобышев, ныне гражданин США, позже опишет в мемуарной книге «Я здесь» |
статья в ленинградской «вечерке» под названием «Окололитературный трутень», начинавшаяся портретом героя: «Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках — неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы». На этом ироничная лирика закончилась.
Трое авторов статьи, целая бригада, перепели «известинский» тезис о бездельниках и Парнасе: «Этот пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас, не так уж безобиден. Признавшись, что он «любит родину чужую», Бродский был предельно откровенен. Он и в самом деле не любит своей Отчизны и не скрывает этого. Больше того! Им долгое время вынашивались планы измены Родине».
«И БЫТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ ЗАКАТАМ, И БЫТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ РАССВЕТАМ. УДОБРИТЬ ЕЕ СОЛДАТАМ. ОДОБРИТЬ ЕЕ ПОЭТАМ»
Намек на самаркандский инцидент понятен, а вот что касается строчки «Люблю я родину чужую», то тут вышел подлог: у Бродского нет ничего подобного. Есть элегическое стихотворение, начинавшееся: «Люби проездом родину друзей» и заканчивавшееся: «Жалей проездом родину чужую».
Фельетон вышел мало того что не умным, но и клеветническим, несколько «антисоветских» строк, приписанных Бродскому, на самом деле принадлежали перу Дмитрия Бобышева и не подразумевали ничего антисоветского. Бобышев объясняет путаницу тем, что дружинники «замели в Доме книги самиздатского энтузиаста по кличке Гришка Слепой с ворохом бумаг, застав его там как раз за их распространением».
Стихи Бобышева и особенно Бродского были нарасхват. Его «Пилигримов» запел популярный бард Юрий Кукин, и многие подражали ему, напевая, словно псалом:
Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы...
и завершающий аккорд:
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.
 |
| Роковая любовь Бродского художница Марина (Марианна) Басманова — адресат уникального в истории мировой литературы поэтического цикла «Новые стансы к Августе», создававшегося на протяжении 20 лет. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую, воронью ночь склоняла чело...» |
Среди бумаг, изъятых дружинниками нравственности, были стихи и Бобышева, и Бродского, но фельетонисты не разобрались, кто автор каких строк, и все приписали одному, заранее приговоренному. Вердикт, вынесенный в конец фельетона, гласил: «Такому, как Бродский, не место в Ленинграде... Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!». Молодежные компании заволновались: чего теперь ждать? Неужели Бродского арестуют?
Особенно нехорошо чувствовал себя в этой ситуации Бобышев — это ведь за его стихи шельмуют товарища. По его словам, не верить которым нет оснований, впрочем, так же, как и верить, он написал саморазоблачительное письмо Даниилу Гранину, председателю комиссии по работе с молодыми авторами при Ленинградском отделении Союза писателей. Но мэтр Гранин якобы был в отъезде, и письмо, которое могло существенно повлиять на дальнейшую судьбу обоих молодых поэтов, пришлось отдать другому союзписовскому чиновнику Воеводину.
К делу Бродского он присовокупил отрицательную справку-характеристику на подсудимого, которую написал сам, зато от имени Союза писателей.
Воеводин числился писателем и живописал в популярном жанре детектива. Лидия Корнеевна Чуковская отметила в своем дневнике: «Секция приключенцев в Союзе — это наиболее невежественная, бездарная и спекулянтская часть писателей. Штамп — сюжетный и стилистический — как идеал, как предел мечтаний. Ни грана поэзии, художества. Все элементарно, т. е. антихудожественно, т. е. античеловечно и реакционно. Вот почему я обрадовалась, узнав, что Воеводин, выдавший суду фальшивую справку, — приключенец».
Дмитрий Бобышев, как следует из его мемуаров, готов был доказывать свое авторство приписанных Бродскому стихов на любом уровне. Наверное, кстати пришлось бы его признание на суде. Но в суд бывший друг обвиняемого не пришел. За несколько дней до выхода фельетона «Окололитературный трутень» они с Иосифом навеки рассорились. Из-за Марины Басмановой.
Подлая закономерность: молодость проходит испытание предательством. Предают друзья, подруги, предает кем-то уже преданный. По общему мнению молодых ленинградских интеллектуалов, Бобышев предал Бродского.
Как-то Иосиф показал Дмитрию небольшую картинку, которую написал маслом на загрунтованном картоне. На картинке двое, мужчина и женщина, сидели в полумраке за овальным столом под широким цилиндрическим абажуром. Позже Бобышев узнает этот стол и этот абажур в доме Марины, когда станет там завсегдатаем.
На картинке за тем же столом сидели Иосиф Бродский и Марина Басманова. Бобышев и раньше знал, что Бродский посвящает стихи М. Б. Было видно, что эта любовь обнажает его нервы, обостряет чувственность, испепеляет:
Ни любви, ни тоски, ни печали,
Ни тревоги, ни боли в груди,
Будто целая жизнь за плечами
И всего полчаса впереди.
Настоящая красавица художница Марина Басманова почему-то не впечатляла Бобышева. Позже он подробно опишет ее, особенно «шелестящий» голос. А вот характеристика, данная Ахматовой: «Тоненькая, умная и как несет свою красоту! И никакой косметики. Одна холодная вода!».
Рассматривая картинку Иосифа, Бобышев взглянул на девушку глазами до беспамятства влюбленного портретиста: «И я вдруг увидел ее красоту. Мне захотелось
 |
| Похороны Анны Ахматовой, у гроба — Анатолий Найман, Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Комарово, 8 марта 1966 года. «Если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище — это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни», — вспоминал протоиерей Михаил Ардов |
поцеловать эти губы».
Потом все трое встретились в одной компании. Марина вела себя своенравно, нарочито независимо. Бродского это задело, он понял — из-за Бобышева. Ушел, Бобышев за ним. «И вдруг Иосиф оскорбительно обозвал меня. Я мысленно занес руку для ответа, но сознание, в котором еще возвышались понятия: Поэзия, Слово, Бог, — удержало ее. Я перешел на другую сторону и посчитал себя свободным от каких-либо дружеских обязательств».
Марина и Бобышев встречались все чаще, хотя их отношения, по его определению, были «дистиллированными». Она дарила ему книги, а однажды — сувенирный охотничий нож со странным пожеланием «сделать его красненьким».
«НО ВЕДЬ ОН, КАЖЕТСЯ, СЧИТАЛ ТЕБЯ СВОЕЙ НЕВЕСТОЙ?»
Новый, 1963 год, они встретили вместе на зимней даче в компании приятелей. За полночь, встав из-за стола, взяли по зажженной свече и пошли на замерзшую реку.
И тут острословый, ироничный до язвительности, Бобышев поцеловал ее и вдохнул «снежный запах волос. Вкус вошел в меня глубоко да там и остался».
Он спросил: «Как же Иосиф? Мы с ним были друзья, теперь уже, правда, нет. Но ведь он, кажется, считал тебя своей невестой?». На что она ответила: «Я себя так не считаю, а что он думает — это его дело». Приходится полагаться на свидетельство одной стороны. Марина Басманова мемуаров пока не издала.
Они вернулись в дом, свечи еще горели. Стали танцевать, огонек ее свечи поджег серпантин, перекинулся на занавеску. Об огненном происшествии помнили все обитатели дома, которые восприняли это как дурной знак. После того как пара уединилась наверху, Бобышеву объявили бойкот и попросили с дачи убраться.
Ему ничего не оставалось, как презирать всех, кто, «словно какой-то окурок или плевок», растирал его «об асфальт». Домой к Бобышеву нагрянул известный художник
Олег Целков и отобрал картину, ранее проданную как другу по достаточно умеренной цене и в рассрочку.
Андрей Битов ужалил еще больнее. Персонаж его нового рассказа носил фамилию Бобышев и при этом был отвратительным типом. «Словом, — резюмировал прототип, — становился Бобышев именем нарицательным для мелкотравчатости и моральной нечистоплотности. Мокрица он и дрянь».
Поэт сумел убедить издательство, где должен был выйти рассказ Битова, что в таком виде печатать его нельзя. В ответ Битов вызвал Бобышева на дуэль, но тот хлестко отрезал: «Ты для меня уже мертв». В результате рассказ опубликовали с измененной первой буквой персонажа, но кого это могло обмануть? Вновь и вновь повторялся вечный сюжет: Моцарт и Сальери. «Гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ль?».
 |
| В геологической экспедиции, 1959 год |
Вознаграждение за страдания «лишний человек» нашел в чувстве превосходства над тем, кого окружение сговорилось считать гением. «Мне нравилась даже раздуваемая до полыханий слава моего соперника, коему я противоборствовал на поприщах личных». Пусть и неравно это поприще поэтическому, но слава побежденного все равно умножала ликование победителя.
Время не смогло притупить остроту чувства Бобышева к сопернику. Когда прошлогоднее трехсерийное телеинтервью Евгения Евтушенко затронуло тему его неприязненных отношений с Иосифом Бродским, Дмитрий Бобышев отозвался статьей, в которой раздал всем сестрам по серьгам: «Суть конфликта состояла в несовместимости двух тщеславий, в различии писательских стратегий, по-своему успешных, потому что давала каждому в свое время максимум наград, премий, величаний и юбилеев».
«ТЕБЕ — ВСЕМИРНАЯ СЛАВА, А МНЕ — СВАЛКА НА КОМОДЕ»
К слову, у Лидии Корнеевны Чуковской есть запись, которая подтверждает, что Бродский заблуждался относительно Евтушенко. «Вернувшись из Италии, он (Евтушенко. — Авт.) написал в ЦК записку-отчет, и там о Бродском: как вредит нам это дело (суд над Бродским. — Авт.), как необходимо его выпустить поскорее и потом издать его книгу — причем он, Евтушенко, берется отобрать стихи и написать предисловие».
Евтушенко и Бродский, каждый по-своему, были в свое время и в своем месте поэтами номер один. И если их тщеславия и боролись, то все-таки в одном, литературном пространстве. А в разнобедренном треугольнике Бродский — Басманова — Бобышев вышло, как сказал один злой литературный критик: «Тебе — всемирная слава, а мне — свалка на комоде».
Иосиф попытался вывернуться из-под явной угрозы, читавшейся между строк фельетона «Окололитературный трутень». Ничего лучше не придумал, как уехать в Москву и по знакомству залечь там в психбольницу.
Возможно, на такой выбор повлияло и решение родителей — они-то знали, что Иосиф с детства не вписывался в советский социум. После каких-то неприятностей с учителем, как пишет в недавно опубликованных воспоминаниях Сэмюел Реймер, американский специалист по русской литературе, многолетний приятель Иосифа Бродского и его родителей, мама отвела Осю к доктору. Учитель, наверное, и присоветовал. «Врач отвел ее в сторонку и сказал: «Не тревожьтесь о вашем ребенке, Мария Моисеевна, на нем печать Божия». Тем не менее, по преобладающему мнению окружающих, Иосиф действительно был не только неординарным, но и нервным молодым человеком.
В Москве очень скоро он понял разницу между психбольницей и курортом. В разговоре с Евгением Рейном взмолился: «Забери меня отсюда, здесь тяжелые
 |
| Ссыльный Иосиф Бродский с жителями деревни Норенской Коношского района Архангельской области. С марта 1964 года по октябрь 1965-го «питерский тунеядец» работал в совхозе «Даниловский» разнорабочим, за время ссылки написал около 80 стихотворений |
больные, свихнусь по-настоящему».
Решение вернуться в Питер стало бесповоротным, когда до Москвы долетела молва о двойном предательстве бывшего друга и возлюбленной. Знакомые Бродского ужаснулись: вернись он сейчас в Ленинград, его арестуют. Но он вернулся. С маниакальным упорством твердил: «Чем хуже, тем лучше».
Первым делом поехал на злополучную дачу. Его впустили в роковую комнату. Бродский нашел там сувенирный охотничий нож, подаренный сопернику с пожеланием «сделать его красненьким». Потом Иосифа видели с запястьями, обмотанными бинтами.
Он не мог поверить, что все кончено, и стал поджидать Марину у ее дома, пытался объясниться. Внезапно поймал себя на мысли, что превратил девушку в нечто вроде подстерегаемой из засады дичи, тогда кто же он сам? Стало стыдно: «Я наотрез отказывался быть охотником». Ах, если бы он не рванул в Питер, а затерялся в Москве! Но он приехал, и его арестовали.
Судебных заседаний было два. Первое — в конце февраля, второе — 13 марта. После первого Бродского снова поместили в психбольницу, теперь уже на экспертизу по постановлению суда. Он много лет пытался избавиться от этого воспоминания, наконец, когда полегчало, рассказал об одном из самых страшных издевательств, придуманных санитарами. Они заворачивали пациента в мокрую простыню и клали под батарею. Простыня высыхала, превращаясь в наждак, и закованный в нее человек испытывал жестокие мучения. Эта питерская больница располагалась на реке Пряжка. Вернувшись из ссылки, Иосиф пошел на ту самую набережную.
Автомобиль напомнил о клопе,
и мне, гуляющему с лютней,
все показалось
мельче и уютней
на берегу реки на букву «пэ»...
Холодный ветер
развернул меня
лицом на Запад,
и в окне больницы
внезапно,
как из крепостной бойницы,
мелькнула вспышка
желтого огня.
 |
| Иосиф Александрович cо своими студентками, Саут-Хэдли, США, середина 80-х. С 1982 года до конца жизни Бродский преподавал литературупо весенним семестрам в университетском городке Саут-Хэдли (штат Массачусетс) |
Но одно мгновение компенсировало весь тот ужас. Марина пришла навестить его. На территорию ее не пускали. Она поджидала Иосифа за железными воротами и дождалась — его как раз повели через двор из одного корпуса в другой. Вдруг он услышал мяуканье и узнал ее голос. Он с детства любил кошек, и в шутку они с Мариной иногда перемяукивались. Он повернул голову на звук и несколько секунд смотрел на нее.
Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело...
Дмитрий Бобышев, исстрадавшийся несправедливым, как он считал, бойкотом, с особенной досадой заметил охлаждение Марины: «Все это было бы ничего, если б не сомнения, уже раз навсегда поселившиеся во мне по поводу искренности подруги, если б не поиски объяснений ее колеблющегося поведения в совсем уже чуждом ряду понятий — в стратегии кокетства, в использовании меня как средства для уловления не меня, а его, его, — вот в чем был «потерянный рай» ослепившего меня на минуту счастья».
«А КТО МЕНЯ ПРИЧИСЛИЛ К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ?»
Из стенограммы судебного заседания 18 февраля 1964 года по обвинению Иосифа Бродского в тунеядстве.
«Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?».
 |
| Суд над «тунеядцем» Бродским, март 1964 года, Ленинград. «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» |
О кафкианской фантасмагории судебных заседаний мир узнает из стенографических записей Фриды Вигдоровой. В деле Бродского ее заинтересовала Анна Ахматова. Фрида, веселая, с открытым лицом 45-летняя писательница и журналистка, у всех неизменно вызывала симпатию.
Как раз в дни, предшествовавшие суду, у нее появились первые признаки неизлечимой болезни. Ее близкая подруга Лидия Чуковская записала в дневнике: «Фрида
 |
| Писательница и публицистка Фрида Вигдорова стенографировала все судебные заседания по делу Бродского, хотя это было категорически запрещено. «Фрида шла на подвиг, на смертный бой» |
шла на подвиг, на смертный бой». Анна Ахматова с багажом в три инфаркта, катастрофически слепнувшая Чуковская и начавшая сдавать Вигдорова стали мотором борьбы за Бродского. Кроме остатков здоровья, им нечего было терять.
Судья Савельева, недалекая и жесткая, как залежалая ржавая селедка, угрожающе покрикивала на Фриду: «Прекратите писать! Прикажу вывести из зала!». Та как ни в чем не бывало прилаживала мелкие клочки бумаги на коленях, писала вслепую и при этом делала вид, будто неотрывно глядит на судью. «Как ни в чем не бывало» далось ей тяжело, она сказала Лидии Чуковской: дело Бродского «изгрызло мне нутро». Вскоре она сляжет и больше не поднимется. Но и буквально за несколько дней до кончины спросит у пришедшей проведать Лидии Корнеевны: «Как наш рыжий мальчик?».
Но тогда шпионская хитрость удалась, и стенограмма двух дней судилища пошла в зарубежную печать. Самая мудрая на свете и человеколюбивая советская власть ничего так не боялась, как обвинений в глупости и негуманности.
Из стенограммы судебного заседания от 13 марта 1964 года.
«Судья: А что вы сделали полезного для родины?
Бродский: Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден... я верю: то, что я написал, сослужит людям службу и не только сейчас, но и будущим поколениям.
Голос из публики: Подумаешь! Воображает!
Другой голос: Он поэт. Он должен так думать.
Судья: Значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Бродский: А почему вы говорите про стихи «так называемые»?
Судья: Мы называем ваши стихи «так называемые» потому, что иного понятия о них у нас нет...
Сорокин: Можно ли жить на те суммы, что вы зарабатываете?
Бродский: Можно. Находясь в тюрьме, я каждый раз расписывался в том, что на меня израсходовано в день 40 копеек. А я зарабатывал больше, чем по 40 копеек в день.
Сорокин: Но надо же обуваться, одеваться.
Бродский: У меня один костюм — старый, но уж какой есть. И другого мне не надо».
«НИКАКОЙ ОТТЕПЕЛИ. ИЛИ ЛЕТО, ИЛИ МОРОЗ»
 |
| Андрей Басманов — сын Иосифа Бродского и Марианны Басмановой |
Иосифа Бродского судили не при Сталине, не при Брежневе, а при творце «оттепели» Хрущеве. Да, это уже был не тот пламенный разоблачитель культа личности, которому советская интеллигенция слагала оды. Верх в Хрущеве снова одержал партийный функционер, непримиримый к детям «оттепели» — художникам-«педерастам», «нечто неизвестное выставившему» скульптору Эрнсту Неизвестному, к танцорам твиста-«свиста», к измученному унизительной травлей и возней вокруг Нобелевской премии Борису Пастернаку, к Виктору «не тому Некрасову», к Андрею Вознесенскому, удостоенному угрозы «Сотрем!».
В споре (Вознесенский еще пытался спорить) Хрущев четко сформулировал: «Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки — а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы... Ишь ты какой Пастернак нашелся!». И еще раз повторил, чтоб запомнил: «Никакой оттепели. Или лето, или мороз». О лете речь, конечно, не шла.
Никита Сергеевич отметился и в истории с Бродским. Через семь месяцев после его высылки из Ленинграда Лидия Чуковская записала в своем дневнике: «Ну вот, а сегодня КИ (Корней Иванович Чуковский. — Авт.) ходил к Федину, который... сказал, что: дело Бродского (с Фридиной записью) было докладываемо лично Хрущеву (по-видимому, из-за криков за границей), и он сказал якобы, что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что его судили за тунеядство, а не за политику, за стихи ему причиталось бы 10 лет».
Отбушевав, Никита Сергеевич, похоже, обдумал то, что сказал. Ведь если «суд велся безобразно», а главным образом это произошло не только по причине судейского хамства, но также из-за приписывания Бродскому чужих стихов и надуманные обвинения в тунеядстве, то ни 10 лет, ни пять, как в приговоре, за них ему не полагались.
С большой долей вероятности это Хрущев дал команду генералу Николаю Миронову, дружившему с Брежневым с днепродзержинских школьных лет и заведовавшему отделом административных органов ЦК КПСС, смягчить наказание молодому поэту. Было решено: 15 человек, хлопотавших в разных инстанциях, возьмут Бродского на поруки и поэта выпустят
 |
| Анастасия Кузнецова — дочь поэта от балерины Марии Кузнецовой |
через восемь месяцев ссылки. Кроме уже названных, среди них были Самуил Маршак, Константин Паустовский, Дмитрий Шостакович, Юрий Герман, Лев Копелев с женой Раисой Орловой и другие. Чуковская скажет о них: «Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашия мысли». Срок окончания ссылки назначили на 13 ноября. На такой успех никто не рассчитывал!
Но тут вмешался злой рок. 14 октября Хрущева сместили с должности, а 19 октября Миронов, которого новый генсек Брежнев готовил в председатели КГБ, погиб в авиакатастрофе. Ссылка Бродского затянулась на полтора года. Его освободил Брежнев, желая расположить к себе зарубежную интеллигенцию в ответ на ходатайство о Бродском Поля Сартра, Луи Арагона, Пабло Неруды.
До ссылки Иосиф не слишком подолгу, но все-таки работал то фрезеровщиком, то выезжал в геологические экспедиции, то санитаром постигал анатомические премудрости в одном из питерских моргов. Высокий парень не боялся никакого, в том числе физического, труда. Этапированный в деревню Норенскую Архангельской области, он со временем адаптировался к новым условиям жизни, преодолел депрессию и даже сердечную боль, начавшую его мучить и впоследствии все-таки приблизившую безвременную кончину. Бродский часто писал о смерти, что не подобало бодрому строителю коммунизма, но пришел к оптимистическому выводу: «Смерть — это то, что бывает с другими».
В совхозе Норенской он возил навоз, из-за проблем с сердцем его не слишком эксплуатировали. Подружился с местными, простыми и сильно пьющими людьми.
Подкармливал их, подлечивал привезенными с собой лекарствами. Всерьез взялся за английский, разошелся и написал много хороших стихов. Чуковская послала ему теплый спальный мешок, и он вообще почувствовал себя человеком. О ссылке у Бродского остались наилучшие воспоминания. Во многом потому, что однажды к нему приехала Марина.
Басманова не могла не понимать, что виновата. Это из-за ее неверности он сорвался из Москвы и попал под суд.
 |
| В январе 1990 года на лекции в Сорбонне Бродский увидел среди своих студентов Марию Соццани — юную красавицу-итальянку русского происхождения по материнской линии. 1 сентября они поженились, через три года у них родилась дочь |
Бобышев опять чувствовал ее отчуждение. То к ней не дозвониться, то вообще исчезнет, не предупредив... Дальше от него — значит, ближе к Бродскому. В мемуарах он напишет: «Из архангельской ссылки шло то же самое в виде писем, стихов, телефонных вызовов. И кто я был, чтобы ей приказать: «Не читай» или: «Не говори»?».
Бобышев по-настоящему страдал. Пытался поговорить с ней. Она брезгливо отмахивалась: «Терпеть не могу выяснять отношения».
Марина близко сошлась с друзьями Иосифа, которые стали их посредниками. «От них-то и шли звонки: в сельсовет ли в определенное время, к ним ли с переговорного пункта на станции Коноша, и уж, наверное, происходили свои «выяснения отношений», как я понимаю, происходило примерно то же, чего я старался не делать. И все-таки делал».
Для Иосифа все тоже было непросто. В дневнике Лидии Чуковской за 9 января 1964 года есть запись: «Бродский пытался перерезать себе вены. Ибо его оставила невеста».
«И ЕСЛИ МЫ ПРОИЗВЕДЕМ ДИТЯ, ТО НАЗОВЕМ АНДРЕЕМ ИЛИ АННОЙ»
Однажды Марина исчезла из Ленинграда и не появлялась несколько дней. Бобышев заволновался. Вспомнил их поездку на электричке, когда она вдруг с тоской сказала о том, как они раньше были счастливы. Он запомнил то место, на которое она при этом смотрела сквозь оконное стекло. Подумал, что Марина могла уединиться там, в поселке. Поехал. Не нашел ни в этом поселке, ни в соседнем. И тут его ударило: она у Бродского!
Долго мучился, вспоминая его адрес, и вдруг всплыло: Архангельская область, станция Коноша, Норенская. Взял два дня отгула «да и отправился очертя голову — уже не за счастьем, а «хоть себя положить, а несчастье свое возвернуть».
Дело было в марте, примерно год спустя после высылки Бродского. Бобышев сошел с поезда в Коноше, машина в Норенскую могла отправиться только завтра, он не стал ждать утра и за 30 километров пошел пешком. Ему не терпелось услышать свой приговор.
Он мог не дойти, замерзнуть на только начавшей подтаивать дороге, но, к счастью, его нагнала попутка и довезла до самого дома, где жил Бродский. Это была
 |
| Иосиф Александрович с младшей дочерью Анной Александрой Марией, по-домашнему Нюхой, 1995 год |
большая изба в ряду таких же нечаянно воткнутых среди пустынного поля. Приехал вовремя. У крыльца стояла другая машина. Марина сидела в кузове, «Иосиф в сапогах и ватнике стоит у колеса, провожает».
Дмитрий перемахнул через борт кузова: «Я за тобой!». Иосиф: «Нет, Марина, слезай, ты никуда не поедешь!». Кричали по очереди, то один, то другой: «Едем!», «Слезай!». Марина слезла. Втроем пошли в избу. Продолжали: «Она поедет со мной», «Нет, останется здесь». Стреляли друг в друга глазами, вдруг заметили висевший на стене топор... Еще немного и... Если в первом акте на стене висит ружье... Но до последнего акта не дошло, Марина твердо сказала: «Все, я ухожу».
Машины уже не было. Втроем пошли полем, потом начинался лес. На краю поля, как на краю жизни, стали лицом к лицу, собрались кулаками доказать свое превосходство. Опять вмешалась Марина. Быстро что-то сказала Бродскому и вошла в лес, Бобышев за ней. Бродский остался.
Отойдя подальше, Дмитрий достал из кармана пальто железку, загодя приготовленную для утяжеления кулака, и выбросил в ручей. «И не символический ножик. И не реальный топор. А так, железка «для веса». Но можно было проломить ею череп».
25 сентября 1965 года Иосиф Бродский заедет по пути из Норенской домой к Лидии Чуковской. «Иосиф. Тот, кого не дождалась Фрида. Не я имела право обнять его в дверях и жарить ему яичницу, и смотреть, как он ест... Но — выпало это мне. И я старалась радоваться, и мне это почти удавалось».
В тот год Бродский написал стихотворение «Пророчество». Он не столько пророчил, сколько заговаривал, чтобы все случилось так, как на его картинке: двое, дом, стол, лампа.
Придет зима, безжалостно крутя
осоку нашей кровли деревянной.
И если мы произведем дитя,
то назовем Андреем или Анной...
 |
| Анна Александра Мария Бродская-Соццани |
Анна станет одним из трех имен его последней дочери, родившейся от брака с красавицей Марией Соццани почти за три года до его ухода из жизни. Еще об одной дочери, Анастасии, названной так ее мамой балериной Марией Кузнецовой, Иосиф узнает через много лет после ее рождения.
Финал отношений с М. Б. Иосиф увенчает стихотворением «Postscriptum»:
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твое существование, не стало
мое существованье для тебя...
Своего сына они с Мариной назовут Андреем. Больше из пророчества ничего не сбудется.

 Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Российская национальная идея? Для начала — за собой воду спускать, в том числе в метафорическом смысле — от дерьма избавляться, а потом уже начинать учить мир духовности»
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ: «Российская национальная идея? Для начала — за собой воду спускать, в том числе в метафорическом смысле — от дерьма избавляться, а потом уже начинать учить мир духовности» Экс-первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп БОБКОВ: «Буковского и Щаранского американцы завербовали, а Сахаров... Не та женщина рядом с ним оказалась, не та — властная, экзальтированная. Она это все натворила...»
Экс-первый заместитель председателя КГБ СССР генерал армии Филипп БОБКОВ: «Буковского и Щаранского американцы завербовали, а Сахаров... Не та женщина рядом с ним оказалась, не та — властная, экзальтированная. Она это все натворила...» «Я бежал от судьбы, из-под низких небес...»
«Я бежал от судьбы, из-под низких небес...» «То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля»
«То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля» А счастье было так возможно?
А счастье было так возможно? Ивар КАЛНЫНЬШ: «Интервью Дмитрия Гордона напоминают неотъемлемые составляющие одной большой мозаики, красочной картины мира — благодаря им мы познаем эпоху, имеем возможность запомнить лица тех, кого искренне любим и уважаем»
Ивар КАЛНЫНЬШ: «Интервью Дмитрия Гордона напоминают неотъемлемые составляющие одной большой мозаики, красочной картины мира — благодаря им мы познаем эпоху, имеем возможность запомнить лица тех, кого искренне любим и уважаем» Долгое прощание
Долгое прощание Композитор Игорь Поклад в реанимации
Композитор Игорь Поклад в реанимации Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги