Черным по белому
Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ: «На первом же допросе Параджанов заявил: «Вы утверждаете, что я совратил одного? Да у меня этих мальчиков была сотня! Нет, тысяча!»

Дмитрий ГОРДОН. «Бульвар Гордона» 12 Марта, 2009 00:00
Часть IV
Интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию, было взято у Павла Архиповича 11 лет назад, но по-прежнему сохранило свою актуальность.
Интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию, было взято у Павла Архиповича 11 лет назад, но по-прежнему сохранило свою актуальность.

«КАК ЖЕ ВЫ ВЫУЧИЛИ НАШ ЯЗЫК?» — ИНТЕРЕСУЕМСЯ У КИТАЙЦЕВ. «ПОЛАДИО»
— Вы объездили почти весь земной шар за исключением Австралии, Южной Америки, Японии и даже Антарктиды. Где бы хотелось вам жить, если бы однажды решили покинуть родину?
— Наверное, в Риме. Однажды мы — делегация ВС СССР — летели через этот удивительный город из Африки. Оставалось три часа между рейсами, и посол, встретивший нас в аэропорту, показал нам Рим на рассвете. Представьте: ни людей, ни машин, мы подъехали к Колизею и собору святого Петра. Впечатление не передать словами. Недаром Гоголь так любил столицу Италии! Видно, у нас с итальянцами очень много общего.
— Ну а по части экзотики все страны затмила Ботсвана? Или Танзания?
— Нет, скорее, Китай. Там я был еще при жизни Мао Цзэдуна. С СССР уже тогда отношения обострились, но украинцев принимали хорошо. На празднование очередной годовщины китайской социалистической революции пригласили четверых гостей из УССР: заместителя председателя киевского горсовета как партийного работника, рабочего из Харькова, буковинскую колхозницу и меня как представителя творческой интеллигенции.
Месяц мы смотрели страну. Ее жители страдали тогда от голода, а нас кормили отменно — приставленные к нам местные партработники отъели за 30 дней совместного столования круглые щечки. На обеде во дворце императрицы (в 50 километрах от Пекина) перед нами извинились: «Дорогие советские друзья! Мы не можем подать вам 101 блюдо (как для Ее Величества), их будет только 33...».
— Что, и живую змею над бокалом вина разрезали, выливая ее желчь в алкоголь? Говорят, этот напиток удивительно повышает жизненные силы, особенно мужскую...
— Змей не мучили, но сало в пальмовом сиропе было. Бедная колхозница перенести этого, не выскочив из-за стола, не смогла.
— А вы держались мужественно?
— Я ел все. На юге Китая пробовал знаменитую «Битву тигра с драконом» — жаркое из кошки и змеи, на озере Дун Ху, где отдыхают члены китайского Политбюро, нас угощали «Окунем из озера Дун Ху». В округе не осталось ни одного воробья (всех съели), а здесь по воде плавали лебеди, гуси и утки, которых охраняли автоматчики.
Так вот, приносят нам жаровни, а в них кипит что-то похожее на кусочки рыбы фри. Совершенно шикарная вещь! На другое утро наш харьковский рабочий продолжать экскурсию не мог — животом маялся. Переждали мы денек, вернулись в Пекин, а там спрашивают: «Ну что, пробовали лягушку из озера Дун Ху?». Именно ее и не мог переварить пролетарский желудок.
Впрочем, экзотика — это не только еда и питье... До города Ухань добираться нужно было километров 70 на автомобиле «Хун цы» («Красное знамя») — местной разновидности нашего «членовоза» для членов Политбюро. Так вот, вдоль всей трассы сидели, наверное, миллион китайцев с ковшами, а еще миллион носили в деревянных бадьях на коромыслах воду, которую сидящие выплескивали на дорогу. «Что они делают?» — спрашиваем. «Это они стараются, чтобы советским друзьям не было пыльно...». Вечером возвращаемся — повторяется тот же самый процесс, символизирующий гостеприимство.
— Наверное, легче было заасфальтировать дорогу?
— За покрытие надо платить, а китайцы, сами понимаете, бесплатные. В гостиницах на этаже, где мы останавливались, не было видно ни одного местного жителя, кроме нашей свиты. В ресторане тоже никаких контактов. Переводчики — парень и девушка, никогда не бывавшие в Союзе, говорили по-русски совсем без акцента, только, как и все китайцы, не выговаривали букву «р». (Этого звука, называемого в Древнем Риме «кана литера» — «собачья буква», в китайском просто нет). «Как же вы выучили наш язык?» — интересуемся. «Поладио».
В каком-то городе (уже не помню, в каком) решили нас познакомить с работой мясокомбината, продемонстрировав весь процесс: от убоя бедных животных до получения колбасы. В загоне стояли 20 или 30 буренок, рядом — пустые отсеки. «Нет колов, нет мяса, это для советских длузей пливезли, стобы показать, как долзно быть...».
— Павел Архипович, а вам никогда не хотелось заняться не историческими, а «географическими» романами, опубликовать нечто вроде «Непутевых заметок» или хотя бы почаще встречаться с молодежью, чтобы рассказывать не о том, что родило ваше воображение, а о том, что видели воочию?
— Поверьте, кроме дорожных впечатлений, у меня накоплен солидный багаж жизненного опыта. Жаль, если он окажется невостребованным. На одном из съездов КПУ мне довелось рассказать, что в Америке, откуда я тогда только что вернулся, при каждом университете есть свой писатель. В Оксфорде, например, Фолкнер. Он жил на своей родовой вилле, а раз в году, примерно месяц, принимал у себя студентов или сам приходил к ним в аудитории. Потом эти свободные беседы издавали отдельной книгой.
Бродский получил Нобелевскую премию не столько за стихи, сколько за свою блестящую эссеистику — не что иное, как разговоры со студентами Бостонского университета, где он вел семинары. Конечно, о Марке Аврелии можно прочесть в энциклопедии, но Бродскому платили две-три тысячи долларов в месяц, чтобы поведал молодежи, каким Марка Аврелия видит именно он.
С одной стороны, подкармливать писателей благородно, а с другой, как говорил Маяковский: «...занятий у юношества масса — грамматике учим дураков и дур...». И многие, знаете ли, умнеют. Впечатления, полученные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Вот я и предложил с трибуны съезда: почему бы и нам не ввести подобную практику — чего-чего, а писателей у нас хватает...
«ИНКВИЗИТОРЫ ТАК НЕ ВЫСТУПАЛИ ПРОТИВ ЕРЕТИКОВ, КАК ШОЛОХОВ НА СЪЕЗДАХ ПАРТИИ»
— Трудно, правда, найти по две-три тысячи долларов в месяц им на зарплату...
— Да не надо денег, я, например, делал бы это бесплатно. Наверное, меня неправильно поняли или не захотели понять. Через некоторое время пришел ответ из Министерства высшего образования по запросу из ЦК: мол, подобные встречи со студенчеством у нас и так проводятся. Как объяснить, что не о том вел речь?
Когда-то к нам, студентам Днепропетровского университета, приехал сам Остап Вишня, книги которого в каждой крестьянской хате стояли рядом с «Кобзарем». Вышел мэтр на трибуну и сказал: «Здоровенькi були!». Все засмеялись. Ничего особенного в этой фразе не было, но помню ее, будто слышал вчера.
...Русскую литературу преподавали у нас примерно так. Входит в аудиторию старенький Яков Абрамович и начинает: «Анна Каренина была ничего себе бабъенка, и она очень любила своего ребъенка...». А другой преподаватель — рыжий, взлохмаченный, худой, как черт, — вбегает и с порога, едва бросив портфель на кафедру, кричит: «О, терква, кватерква белтур!». А мы латыни еще не слышали, ничего не можем понять. Нас цитирование Горация с места в карьер мало чему научило.
Я был самым аккуратным студентом, все конспектировал, так по истории литературы к концу семестра набралось странички полторы. Прекрасные пламенные фразы нашего преподавателя — вечного кандидата наук — были ни о чем. Докторскую он не мог защитить лет 10. Все Герцена изучал, но однажды поехал в Москву на какую-то конференцию, а в это время умер Серафимович.
На кладбище над могилой говорили всякие пошлости, как тут наш Георгий Александрович протискивается вперед и толкает блестящую речь: «Железный поток»! «Таманская дивизия»!.. Писатели и критики переглянулись: «Кто такой?». — «Преподаватель из Днепропетровска, пишет докторскую по Герцену». — «Так пусть защищается по Серафимовичу!». За год он стал доктором наук в Институте мировой литературы.
Так что иногда систематические знания необязательны, главное — уметь зажигать сердца. Когда я уже был секретарем Союза писателей Украины, приняли мы Георгия Александровича в свои члены как критика, хотя он статей не писал, а в основном выступал на могилках.
— А вы не устали от своих литературных трудов? Может, уже все сказано и остается только наслаждаться жизнью? Шолохов, например, написал два крупных романа и почивал на лаврах...
— Все сказать невозможно, а с Шолоховым вышло не так просто, как кажется. Я заметил закономерность: на Западе чем старше писатель становится, тем плодотворнее работает, а у нас с возрастом вообще перестает за письменный стол садиться. Наверное, по причине малограмотности. Советские писатели в большинстве своем — интеллигенты в первом поколении, дети крестьян и рабочих.
Когда нет передающейся от дедов к внукам системы знаний и духовных ценностей, твои возможности существенно ограничены. Эту обреченность можно победить только страшным трудом, а наша славянская натура такова, что процесс вгрызания в гранит науки общество не особенно поощряло.
Шолохов — яркий пример. Написал «Тихий Дон» и «Поднятую целину» и пил горькую всю оставшуюся жизнь. Вы почитайте его выступления на съездах партии — это же кошмар! Инквизиторы так не выступали против еретиков! Зубодробительные призывы: расстреливать, вешать, в крайнем случае — сажать. Ну разве писатель может употреблять такую терминологию, тем более с высокой трибуны? А он себе это позволял.
— Он, кажется, ни в чем себе не привык отказывать. А кто из советских писателей, с которыми вам приходилось неформально общаться, любил пожить на широкую ногу?
— Софронов, Аркадий Первенцев (вы его, наверное, не знаете), писавший о кубанских казаках. Он родил всего два романа, но жил, как дворянин. Куда там графу Льву Николаевичу Толстому!
— Где же Первенцев денежку брал?
— В Москве можно было регулярно переиздаваться, потом выпускать книги в союзных республиках, что позволяло существовать довольно безбедно. Однажды мы отдыхали по соседству в Доме творчества в Ялте и вдоволь там наобщались. Внешне он был ярким, высоким — под два метра, красивым, но и как писатель, и как человек — очень посредственным.
— Вы никогда не подсчитывали, сколько лет потратили на различные заседания и собрания, форумы и съезды?
— Если учесть, что день заседания вообще выпадал из жизни, а «збiговиська» происходили примерно два-три раза в неделю, то цифры получаются впечатляющие. На службе я состоял с 51-го по 86-й год. Треть от 35 лет — это примерно 11, выброшенных впустую. Сейчас в Украине тоже устраивают столпотворения по поводу и без повода, как при Советской власти, каждый день что-то происходит.
Между прочим, в мире появилась целая армия интернациональных чиновников, которые на лайнерах облетают планету, выбирают, где проводятся симпозиумы и презентации. Нам, провинциалам, так хочется идти в ногу с цивилизованным миром — вот его представители и приезжают бесплатно пожить в наших гостиницах, поесть-выпить.
— Но и раньше после заседаний непременно был «пятый вопрос»...
— Заседали исключительно всухомятку — только чаек. Даже в Кремле в кабинетах — Боже упаси!
— А по вечерам в гостинице?
— Но это же за свой счет. Там заказывай что хочешь — пожалуйста.
«ЧЕМ БОЛЬШЕ У ЧЕЛОВЕКА ВРАГОВ, ТЕМ ОН ЦЕННЕЕ»
— О вашем остром языке ходят легенды. Не тоска ли по безнадежно потерянному времени ожесточила ваш характер и сделала довольно неудобным в общении с коллегами? Говорят, пока вы поднимались по лестнице на второй этаж в свой служебный кабинет в здании Союза писателей на нынешней улице Банковой, успевали нажить двух-трех врагов...
— Это, скорее, издержки моей нелегкой судьбы и привычки (тогда еще мечты) пребывать в одиночестве. А нажить врага в дураке — разве это плохо? По-моему, чем больше у человека врагов, тем он ценнее...
А вообще, не стоит зацикливаться на списке потерь, есть ведь и перечень обретений. Вспоминая свою жизнь, наполовину пустую, прошедшую в заседаниях и ерундословии, я до сих пор наслаждаюсь ощущением, испытанным после ухода из Союза писателей. Это было в 86-м, сразу же после Чернобыля. Я почувствовал, что морально не могу быть ни на каких должностях, противоестественно было продолжать тянуть лямку, будто ничего не случилось.
Засел за письменный стол и вздохнул с облегчением: не нужно больше читать графоманов и бездарей, пожимать руки негодяям... Мне жаль государственных мужей: они рабы условностей и по-своему несчастные люди. Величайшее счастье — иметь свободу, даже в бедности. Счастливыми были монахи. В монастырях не было большого достатка, там существовали свои проблемы и конфликты, но монашество в идеале прекрасно — это высшая степень свободы.
— В авторском послесловии к «Роксолане» вы говорите: «Когда начинаешь писать роман (особенно исторический), создается впечатление, будто все идет тебе в руки, появляется множество людей, готовых прийти на помощь, неожиданно находятся нужные тебе книги, хотя до этого они могли лежать где-то целые века, археологи выкапывают то, о чем никто и не мечтал, теоретики выдвигают теории, без которых роман был бы невозможен. Чем все объяснить? Мистика? Может, это то, что называют озарением? Ты почувствовал мгновение, когда можно браться за то или иное, и тогда как награда за смелость — ливень неожиданных подарков». А если говорить о дарах вполне материальных — при каких обстоятельствах, например, у вас появилось кресло XVIII века — память о Параджанове?
— С Параджановым нас свел случай. Режиссер написал сценарий «Киевских фресок» — как обычно, страничек пять-шесть машинописного текста. Мол, зачем больше, если все равно выброшу их под стол и буду снимать как хочу. А чтобы чиновникам от кино было что утверждать, председатель Госкомитета по кинематографии Иванов попросил меня: «Помоги Сергею Иосифовичу, разбавь текст, доведи хотя бы до 40 страниц».
Конечно, я просьбу выполнил, сценарий утвердили, но фильм все равно снять не дали, хотя пробы были гениальными. Параджанов умудрялся перед началом работы обругать какого-нибудь крупного начальника (доходило и до мата) или устроить хулиганскую выходку.
Снимал он как-то фильм «Саят-Нова» — о талантливейшем армянском поэте XVIII века. В кадре ему понадобилось положить на стол две крупные севанские форели, а рыбаки разводят руками: мол, в озере давно нет рыбы. Тогда Сергей дает телеграмму первому секретарю ЦК Армении товарищу Кочиняну: «Последнюю форель съел Кочинян зпт фильме «Саят-Нова» нечего снимать тчк Прошу дать указание выделить две форели из цековских НЗ тчк».
Или работает Параджанов в Карпатах над «Тенями забытых предков» и опять шлет депешу. На этот раз на киностудию имени Довженко и дубликат — в Госкомитет по кинематографии: «Требуется один осел для съемок». Руководитель комитета читает и приходит в бешенство: «Выходит, я осел?».
— Подобные выходки гения — эпатаж ради эпатажа или свидетельство скверного характера Параджанова?
— Нет, Сергей Иосифович был не злым, а, наоборот, очень добрым и веселым человеком.
— И поэтому опрометчиво пошутил на предмет своей любви к мальчикам? Вы продолжаете утверждать, что обвинения Параджанова в гомосексуализме — бред чистейшей воды?
— Да, шутка оказалась, мягко говоря, не очень удачной. Его «Тени забытых предков» прошли по экранам многих международных кинофестивалей, а самого Параджанова за границу не выпускали. Обиженный режиссер пообещал своей знакомой еврейке, что он женится на ней, а она ему поможет уехать в Израиль. Наверное, кому-то похвастался, что скоро окажется не досягаемым для родной бюрократической машины, но «капнули» куда надо и, чтобы удержать, начали «шить дело».
Были мальчики или нет, сейчас сказать трудно. Может, он их и любил, но когда его арестовали, на первом же допросе Параджанов заявил: «Вы утверждаете, что я совратил одного? Да у меня этих мальчиков была сотня! Нет, тысяча!». Стражи закона таких шуток не понимали — вот и пришлось ему отсидеть срок в винницком лагере. А потом Параджанов уехал в Грузию, и там его опять упекли за решетку. Это был страшный позор.
— Кроме параджановского кресла, у вас много любимых вещей — реликвий, с которыми было бы тяжело расстаться?
— Наверное, нет, хотя, может быть, нас считают рабами вещей. Скажем, у нас с женой в квартире всегда было большое количество мебели.
— Кто нежнее привязан к интерьеру: вы или Элла Михайловна?
— Я, потому что вырос в селе, а крестьянские дети — здоровые собственники. Жена у меня — горожанка пролетарского происхождения, у нее психология другая.
— Значит, оторвать что-либо от сердца для вас почти подвиг?
— Почему же, на 50-летие я подарил Гончару прижизненное (1860 год) издание «Кобзаря», увидевшее свет за счет средств Платона Семиренко. Не исключено, что Тарас Григорьевич держал его в руках.
— А вы никогда не воровали редкие книги в государственных библиотеках? Помнится, среди людей интеллигентных это не считалось особым грехом...
— Нет, не воровал, хотя... Работая после университета в газете, за 100 рублей я вел литературный кружок при Дворце культуры имени Ильича, принадлежащем Днепропетровскому металлургическому комбинату. Библиотека там была огромная, а особенно меня впечатлили груды книг, изъятых из пользования. Выдавать их было нельзя, сжечь ни у кого рука не поднималась.
Так и валялись они где придется. Там я и потянул «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова, несколько книг Пантелеймона Романова (был такой популярный в 20-е годы писатель, издавший почти полтора десятка томов, а в 30-е репрессированный).
Прихватил и «Абрама-Нашатыря — содержателя гостиницы» — удивительное произведение Михаила Козакова (отца артиста Михаила Козакова), полное непередаваемого еврейского юмора. Воровством это назвать трудно, но благодаря комбинатовской библиотеке я познакомился с тем, что тогда нельзя было прочитать больше нигде.
— Позвольте несколько личных вопросов. Ваша дочь была замужем за сыном драматурга Миколы Зарудного, сын был женат на дочери Дмитра Павлычко, и оба брака распались. Вы относитесь к этому философски, понимая, что жизнь есть жизнь, или чувствуете, что не научили детей бороться за свое счастье?
— А что я мог сделать? Когда появляются дети, родители, как правило, слишком заняты самореализацией, и только с рождением внуков начинаешь понимать, какая это драгоценность.
— Приходилось слышать, что у вас несколько прохладные отношения с сыном, потому что он якобы не оправдал огромных надежд, которые вы возлагали на его карьеру. А ведь Михаил — кандидат наук...
— Что значит «не оправдал надежд»? Я такими категориями не мыслю. Возможно, моя вина в том, что уделял детям мало внимания, но я испытывал такой груз несвободы, что превыше всего ценю именно свободу. Поэтому и дети всегда делали что хотели.
— Значит, вы никогда не были отцом-деспотом, семейным диктатором?
— Нет, и даже не интересовался, как они учились в школе и вузах. Я доверял их планам и желаниям.
«ВСЕ, НАПИСАННОЕ ГАМЗАТОВЫМ, ПРИНАДЛЕЖИТ НА САМОМ ДЕЛЕ ПЕРУ НАУМА ГРЕБНЕВА И ЯШИ КОЗЛОВСКОГО»
— Окружающие не всегда объективны, в силу человеческой природы они хотят больше брать и меньше отдавать. При этом каждый стремится сохранить себя, особенно писатель. Внимание, любовь, общение он иногда недодает даже самым близким...
— Люди сразу чувствуют неискренность тех, кто вчера молился на коммунистов, а сегодня на националистов и даже не удосуживается это скрывать. Самое страшное, что многие из моих коллег-писателей встали на этот путь.
— Тогда, если придерживаться принципа: «Молиться только на прежних богов», вы должны испытывать отчаянную ностальгию по Союзу нерушимому республик свободных...
— Нет, СССР был совершенно неестественной конструкцией, это ощущалось всегда. Я был во всех республиках, процветавших во многом за счет «великого русского народа». Не будем говорить об экономике, но расулам гамзатовым тогда жилось вольготно.
— Вы не считаете аварского поэта талантливым человеком?
— Не знаю, ведь в аварском нет рифм и все, написанное Гамзатовым, принадлежит на самом деле перу Наума Гребнева и Яши Козловского. Хотя Расул и его жена Патимат — прекрасные, добрые и милые люди. Они гостили у меня в Киеве, семьями мы отдыхали в Карловых Варах, где Гамзатов усердно работал и часто, подсаживаясь к моей жене, говорил: «Элла, я почитаю тебе новые стихи. Слушай: «Девушка стоит на скале, джигит мчится на коне...».
— Принято считать, что чем гениальнее писатель, тем несноснее он в быту, капризнее с близкими. Кто из ваших знакомых литераторов обладал самым неприятным характером?
— Трудно сказать. Одно дело — тяжелый характер, а другое дело — неприятный. У меня, например, тяжелый.
— И что, третируете домашних, орете на них, можете запустить чем-нибудь в гневе?
— Никогда не кричу, но говорю правду в глаза. Многих это не устраивает. У Гончара, кстати, тоже был тяжелый характер.
— Вспыльчивый?
— Нет, спокойный, но со спокойствием камня. Работать с Олесем Терентьевичем было очень непросто.
— А с Корнейчуком?
— С ним мы больше отдыхали — наши дачи в Плютах были рядом. Довольно много общались, хотя в гостях я у него не был. А вот он забегал — на пиво. На пляже он любил ходить целый день в пижаме, как большой интеллигент. Встречаешь его, бывало, спрашиваешь: «Вы читали статью в «Правде»?», а он пожимает плечами, потому что ни газет, ни книг в руки не брал.
— Зато, как известно, очень любил рыбалку...
— Да, ему на заводе «Ленинская кузница» построили дюралевый катер с мотором от «волги». Они с женой брали пару десятков спиннингов, бросали якорь чуть ли не посередине Днепра и выставляли «вооружение» с двух бортов.
Ванда следила за спиннингами, а Корнейчук пристально вглядывался в лодки, в которых проплывали молодые полуголые дачницы. Жена его с гневом одергивала: «Саша, куда ты смотришь?!». — «Ну, Вандочка, я же на спиннинги». Держала она его в ежовых рукавицах.
— Наверное, не хотела понять, что писателю нужна Муза?
— Поль Валери по этому поводу сказал, что до 20 лет литератору необходим жизненный опыт, а после — наблюдательность.
— А откуда берется огонь, который способны разжечь только сильные чувства?
— Нужны мысли — на одном чувстве роман не напишешь.
— Наверное, как человек известный, вы пользовались успехом у выдающихся женщин?
— А при чем тут выдающиеся? Если «выдается», то это уже не женщина. Был же такой анекдот о Фурцевой: «Вы не думайте, что я женщина — я кандидат в члены Политбюро».
— Неужели поклонницы вас не добивались?
— Поклонницы — это по части Эдуарда Асадова, сочинявшего сентиментальные стихи. Я не был модным автором...
— И даже не возникали соблазны?
— На них просто не было времени — настолько я был затерроризирован работой. Попробуйте просто сесть и механически переписать все мои романы. Лет 20 доводилось спать часа по четыре в сутки, а искры иногда высекались мимолетными впечатлениями. Когда в начале 60-х я два месяца лечил туберкулез в санатории в Алупке и работал над романом об архитекторах, никак не мог «поймать» образ героини.
Однажды на прогулке увидел со спины девушку, которая шла, «зiщуливши плечi». Вот вам и Муза, с которой мы больше не встречались. Что-то вдохновляющее, конечно, должно быть. «Сквозь чугунные перила ножку дивную продень...» — увидел и досочинил...
— Создается впечатление, что у нас никогда не имелось женской прозы. Разве что «Полевые исследования украинского секса» Оксаны Забужко...
— Вещь Забужко очень вторична, не вижу в ней ничего особенного, но разрекламирована она отменно. Судить о прозе вообще и о женской в частности сегодня трудно: слишком мало ее появляется в журналах, почти не печатаются книги. Когда к нам в Союз писателей приезжали гости из-за рубежа, их очень удивляло, что из тысячи членов СП представительниц слабого пола — не более 50-ти. У них женщин в литературе едва ли не больше, чем мужчин.
— А что вы скажете по поводу повести Валерии Врублевской «В тени деревьев, которых нет»?
— Я эту вещь не читал, но жена подробно ее пересказала. Врублевская мне не интересна. Во-первых, я знаю всех ее писарей — и живых, и мертвых.
— Неужели и «Кафедру» писала не она сама?
— «Кафедру» создал Резникович, он — профессионал Божьей милостью, а что она с Мишей сделала? Когда спектакль выдвинули на Шевченковскую премию, а ей премии не досталось, Врублевская сняла Резниковича с поста главного режиссера, и он вынужден был уехать в Новосибирк — практически в ссылку. Власть у нее была неограниченная. Страшно, когда люди злоупотребляют властью — инструментом, которым надо пользоваться очень осторожно.
«КАЖДЫЙ ВТАЙНЕ НАДЕЕТСЯ, ЧТО КОГДА УМРЕТ, УЛИЦУ НАЗОВУТ ЕГО ИМЕНЕМ»
— А что вы думаете о переименовании улиц, о том, что «писательский» дом находится нынче не на Чкалова, а на Олеся Гончара?
— Я и сам живу теперь на Терещенковской, которая прежде была улицей Репина. Величины совершенно несопоставимые. Весь мир знает Украину во многом благодаря картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». К этому руку приложил Дончик — в ту пору заместитель мэра Киева Салия, — а теперь он и сам оказался в подобном положении, поскольку живет в упомянутом вами «писательском» доме. Там же обитает еще сотня литераторов, и каждый втайне надеется, что когда он умрет, улицу назовут его именем...
— У вашей повести «Голая душа» совершенно потрясающее начало: «Оргазм. Сарказм. Маразм». Универсальная и лаконичная форма человеческой жизни — юности, зрелости, глубокой старости. А сегодня, спустя почти 10 лет со дня рождения этой убойной фразы, вы смогли бы свести всю мудрость жизни к трем словам?
— Скорее, к единственному: «Повторение». Лишите историю этого процесса — и ничего не будет: ни жизни и смерти растений и человека, ни кругооборота времен года. Если бы Господь не желал повторения, он бы не создал мир.
— Или Адам и Ева так и грустили бы в одиночестве в райском саду. Но давайте спустимся с небес на грешную землю. Вам не обидно, что большинство телезрителей, посмотревших недавно сериал «Роксолана», прочно связывают это творение с вами, поскольку если не читали, то хотя бы наслышаны об одноименном романе?
— С моим романом фильм даже не тезка. Нельзя же так выражаться: «Пусть Ибрагим-паша на бумаге изложит детальный план заговора и пришлет на подпись». Это происходит в XVI веке в Османской империи или в конторе современного чиновника?
— На прощание, Павел Архипович, ваши пожелания «Бульвару»...
— Американскую «Дейли ньюс», имеющую корреспондента под каждой кроватью, порядочные люди боятся даже в руки брать. Когда я услышал, что ваше издание называется «Бульвар», думал, что это газета такого же типа, а оказалось — светская, похожая на одну из тех, в которых сотрудничал когда-то известный французский репортер светской хроники Марсель Пруст. Вспомнилась довоенная песенка:
Помнишь городок провинциальный,
Тихий, захолустный и банальный?
Церковь и базар, городской бульвар
И среди гуляющих пар
Чей-то знакомый силуэт —
Синий берет,
Строгая юбка, девичий стан:
Мой мимолетный роман.
Желаю, чтобы ваша газета была похожа на бульвар нашего спокойного довоенного городка, по которому гуляли разные люди: богатые и бедные, веселые и печальные, счастливые и не очень. Удачи вам!

 Народный артист Украины Владимир ГОРЯНСКИЙ: «В городе, где я родился, меня окружали терриконы, шахты и очень-очень много пьяных людей. Поэтому не пью и не курю — мне этого с детства хватило»
Народный артист Украины Владимир ГОРЯНСКИЙ: «В городе, где я родился, меня окружали терриконы, шахты и очень-очень много пьяных людей. Поэтому не пью и не курю — мне этого с детства хватило» Ирина РОДНИНА: «Внешний вид меня никогда не устраивал — мечтала быть худой длинноногой блондинкой»
Ирина РОДНИНА: «Внешний вид меня никогда не устраивал — мечтала быть худой длинноногой блондинкой» Робин Уильямс госпитализирован
Робин Уильямс госпитализирован Сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской признан самым стильным мужчиной России
Сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской признан самым стильным мужчиной России Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой Владимир Литвин научился отличать скифских баб от скифских мужчин
Владимир Литвин научился отличать скифских баб от скифских мужчин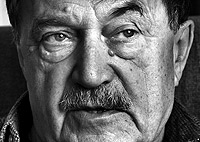 Писатель Василий Аксенов попал в реанимацию
Писатель Василий Аксенов попал в реанимацию Дженнифер Энистон потратила 56 тысяч долларов на прическу
Дженнифер Энистон потратила 56 тысяч долларов на прическу Сколько ты стоишь?
Сколько ты стоишь? Пугачева пригласила Тимошенко на свой прощальный концерт
Пугачева пригласила Тимошенко на свой прощальный концерт Михаил Жванецкий отпраздновал 75-летие
Михаил Жванецкий отпраздновал 75-летие Скончался Ян Арлазоров
Скончался Ян Арлазоров «Огонек» в конце туннеля
«Огонек» в конце туннеля Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ: «На первом же допросе Параджанов заявил: «Вы утверждаете, что я совратил одного? Да у меня этих мальчиков была сотня! Нет, тысяча!»
Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ: «На первом же допросе Параджанов заявил: «Вы утверждаете, что я совратил одного? Да у меня этих мальчиков была сотня! Нет, тысяча!» «Но обстоят великолепно мои плачевные дела»
«Но обстоят великолепно мои плачевные дела» Берегись автомобиля!
Берегись автомобиля! «Виагра» для женщин бальзаковского возраста
«Виагра» для женщин бальзаковского возраста Стас ПЬЕХА: «Впервые увидев на сцене свою бабушку, подумал: «Если надо выступать только в таком виде, лучше я буду военным»
Стас ПЬЕХА: «Впервые увидев на сцене свою бабушку, подумал: «Если надо выступать только в таком виде, лучше я буду военным» Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги